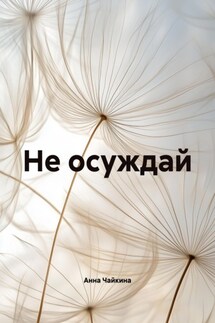КОГДА МУХИ НЕ СПЯТ - страница 15
И вот сидим мы здесь… в полумраке… с дымом сигарет… и эта история все еще… ноет. Как старая рана. Как напоминание о том, что бывает, когда гений встречается с безумием, а любовь – с разрушением. И что иногда, чтобы создать что-то вечное, нужно сжечь дотла все остальное. Даже себя. И друг друга.
Представьте себе это не как исторический очерк, но как мерцающий, тяжелый от времени и памяти фрагмент из сознания кого-то, кто, возможно, даже не был там, но чувствует эту встречу, как давний, но не заживающий шрам на ткани самого Лондона, или, может быть, на душе той эпохи, которая уже тогда, в том душном, пропитанном пивом и сожалениями пабе, несла в себе семена собственного распада.
Вот этот фрагмент, вырванный из потока сознания, как пробка из бутылки, что хранила в себе не вино, но годы и горечь:
«…он сидел там, Верлен, да, Поль Верлен, имя, которое само по себе было похоже на стон или на плевок, в зависимости от того, кто его произносил и в какой момент проклятого дня, сидел в том углу, куда свет даже в самый яркий полдень проникал лишь как бледное, немощное обещание, никогда не выполняемое, сидел среди запаха пролитого эля и вековой пыли и табака, который въелся даже в самый воздух, не просто витал, а стал частью его, как кости становятся частью плоти, и его лицо, да, его лицо – это не было лицо человека, это была карта всех дорог, по которым он прошел, всех канав, в которых он лежал, всех дверей, которые захлопнулись, всех поцелуев, которые жгли, а потом оставили лишь пепел на губах, лицо, изрезанное морщинами, которые были глубже, чем просто следы лет, это были следы ударов, следы падений, следы того, что жизнь может сделать с гением, когда гений не может или не хочет сделать что-то с жизнью, и руки его, да, руки, что писали слова, которые могли бы заставить камни заплакать или цветы расцвести посреди зимы, теперь держали стакан, обхватывая его так, будто это было единственное твердое, единственное настоящее в этом шатком, вечно ускользающем мире, и взгляд его, блуждающий, иногда цепляющийся за что-то невидимое в дыму, иногда пронзительный, как лезвие, но чаще всего просто отсутствующий, взгляд человека, который видел слишком много и слишком мало одновременно, который искал что-то, что, возможно, никогда не существовало или было потеряно так давно, что даже память о потере выцвела.
И в этот самый воздух, в эту сгустившуюся, тяжелую, как свинец атмосферу, вошел другой. Уайльд. Оскар Уайльд. Имя, звучащее как колокольчик в цирке или как удар хлыста на арене, имя, которое уже тогда, в свои двадцать с небольшим, несло в себе груз не столько достижений, сколько ожиданий, и не столько ожиданий, сколько скандалов, или, вернее, обещаний скандалов, обещаний того, что он будет скандалом, будет вызовом, будет живым, дышащим, смеющимся произведением искусства, или, по крайней мере, попытается им быть, со всей серьезностью, на которую способен человек, играющий роль. И он вошел, не просто вошел, а появился, как видение, как птица райская среди воробьев, как отполированный, сияющий артефакт из другого времени или другого мира, в своих бархатных бриджах, или что там он носил в тот день, в своем тщательно уложенном парике волос, или что там было на его голове, с цветком в петлице, который казался слишком ярким, слишком живым для этого места, для этого города, возможно, даже для этой планеты, и от него исходил запах, не запах эля или табака или пота, а запах чего-то дорогого, чего-то искусственного, чего-то, что было создано, чтобы быть красивым, чтобы отрицать все, что этот паб и этот человек в углу собой представляли.