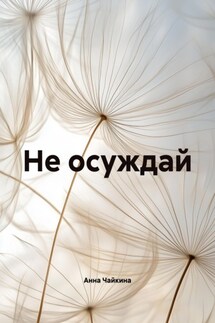КОГДА МУХИ НЕ СПЯТ - страница 13
И Верлен… да, он ответил. Он не просто ответил, он распахнул дверь. «Приезжайте, дорогая великая душа…» – или что-то вроде того. Слова, что стали ключом, повернувшим замок на вратах ада. Или рая. Или и того, и другого одновременно, ибо для них, для «них» это было одно и то же, понимаете? Смесь божественного и дьявольского, красоты и уродства, жизни и смерти.
И он приехал. Ворвался. Не вошел тихо, а «ворвался», как сквозняк с кладбища, как чума, как откровение, как ураган, вырванный из недр земли. В этот тихий, или пытающийся казаться тихим, дом Верлена, где жила жена, молодая Матильда, с ее животом, обещавшим жизнь, обещавшим будущее, обещавшим спокойствие, которого Верлен так боялся и так желал одновременно. И этот мальчишка, этот Рембо, пришел «украсть» это будущее, пришел «сжечь» этот уют, пришел «растоптать» все просто своим присутствием, своей необузданностью, своим гением, своим «запахом» свободы и разложения. Его взгляд, говорят, был таким, будто он видел тебя насквозь, видел всю твою ложь, все твои страхи, и презирал тебя за них. Он плевал на условности, на чистоту, на приличия. Он был воплощенным вызовом.
И с этого момента все покатилось… вниз? Вверх? Кто знает, куда ведет такая страсть, такая одержимость, такая совместная безумная пляска на краю бездны. Они стали двумя планетами, сорвавшимися с орбит, обреченными на столкновение. Париж, Лондон, Брюссель… не потому, что они искали место, а потому, что «место» не могло их удержать. Ни один город, ни одна квартира, ни одна страна не могла вместить эту бушующую энергию, этот взаимный яд, которым они питались, становясь все сильнее и все более разрушенными одновременно.
Бутылка абсента в одной руке, перо, царапающее бумагу, в другой. Крики, что сменялись шепотом, пощечины, за которыми следовали поцелуи, проклятия, переходящие в строки бессмертных стихов. Матильда… бедная Матильда… ее присутствие лишь усиливало накал. Она была живым укором, якорем, который Верлен отчаянно пытался отрубить, но который все тянул его назад, к той «нормальной» жизни, которую он уже не мог вынести. Рембо видел ее лишь как препятствие, как символ той пошлости, от которой он спасал (или губил?) Верлена. «Твоя жена… она как мебель. Скучная, пыльная мебель,» – мог бросить он, сидя напротив Верлена, с циничной усмешкой в глазах, и эти слова жалили Верлена сильнее любого удара.
И вот апогей. Да, апогей всего этого безумия, всей этой любви-ненависти, всего этого гениального саморазрушения. Жаркое брюссельское лето. Душная комната в отеле «Отель де ла Вилье». Воздух сперт от вчерашнего пьянства, от накопившихся обид, от предчувствия конца, которое витало между ними уже давно, как запах тления.
Ссоры стали невыносимыми. Слова летали, как битое стекло. Рембо, всегда готовый к разрыву, всегда на шаг впереди в своей жестокости, объявил, что уходит. Окончательно. Ему надоела эта жизнь, надоел Верлен, его слабость, его метания.
– С меня хватит, Верлен! – голос Рембо, резкий, как удар хлыста. Он стоял у окна, спиной к комнате, к Верлену. Свет с улицы падал на его тонкую фигуру, делая ее призрачной. – Эта твоя тоска, твои слезы, твои обещания… Они меня душат! Я ухожу. В Африку, на край света, куда угодно, лишь бы подальше от тебя и от этой… этой жалкой пародии на жизнь!
Верлен сидел на кровати, помятый, с опухшим от слез и алкоголя лицом. Его руки дрожали. – Ты не можешь… Ты не можешь уйти! – прохрипел он. – Куда ты пойдешь? Что ты будешь делать? Ты пропадешь без меня! Ты же ребенок, Рембо! Проклятый, гениальный ребенок, но ребенок!