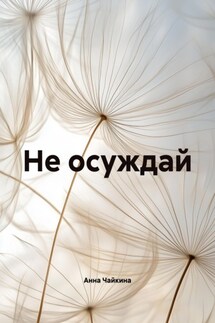КОГДА МУХИ НЕ СПЯТ - страница 12
Он лежал в своей маленькой комнате, на втором этаже, где стены были тонкими, и можно было слышать жизнь гостиницы внизу – голоса, шаги, звон посуды. Тео приехал. Тео, его якорь, его единственный настоящий друг, его брат, чья любовь была единственной константой в этом хаотичном мире. Тео сидел рядом, его лицо было бледным, глаза полны тревоги и невысказанного горя. Они говорили. Или просто были рядом. Курили. Дым от трубки, горьковатый, знакомый запах, наполнял комнату.
«Печаль будет длиться вечно», сказал Винсент. La tristesse durera toujours. Последние слова. Это могло быть подтверждением самоубийства – признание вечной меланхолии, которая наконец взяла свое. Или это могло быть просто констатацией факта – печаль о жизни, которая так и не сложилась, о красоте, которую он видел, но не мог полностью передать, о любви, которую давал, но не получал в ответ в той мере, в какой нуждался. Печаль о брате, который теперь останется один с этим грузом, с его картинами, которые никто не покупает, с его памятью.
Тео держал его руку. Чувствовал, как жизнь медленно уходит, как свет меркнет в глазах, которые видели больше цветов, чем глаза любого другого человека на земле. Он умер на руках Тео, в ранние часы вторника, 29 июля 1890 года. В тишине, нарушаемой лишь дыханием Тео и тиканьем часов где-то внизу.
И вот он лежит там, на кладбище в Овере, под солнцами, теми самыми, которые он так любил писать, под простым камнем, рядом с Тео, который последовал за ним всего через полгода, не выдержав потери, не выдержав бремени. А правда о том дне, о том выстреле, о ружье, которое исчезло, она осталась там, в поле, среди пшеницы, под небом, которое он так часто пытался поймать на свой холст. Захороненная под пылью Овера, под слоями домыслов и воспоминаний, под тяжестью той печали, которая, как он и предсказал, длится вечно. И никто, ни историк, ни биограф, ни даже дух самого Винсента, блуждающий над этими полями, уже не сможет сказать с полной уверенностью, была ли это рука судьбы, рука болезни, или чья-то другая рука, дрогнувшая в тот летний день, что поставила последнюю, роковую точку в жизни, которая была слишком яркой, слишком болезненной, слишком полной цвета для этого бледного мира. И это стало частью его последней, неразгаданной картины.
Поль Верлен
Верлен и Рембо… да, вы слышали, конечно, слышали, и слушать будете, пока есть на свете хотя бы одна душа, способная обжечься о строчку стиха или о чужую жизнь, потому что история их – это не просто история, это символ, это проклятие, это предостережение и восхищение в одном флаконе, разбитом и воняющем спиртом и порохом. Она как заноза под кожей времени, как гнойная рана, что не затягивается, а лишь ноет и пульсирует под всей этой парижской пылью, лондонской грязью и брюссельским дождем.
Началось все, говорят, с клочка бумаги… да, с «письма». Нежного? Нет. Робкого? Никогда. Это был удар, вызов, молния, посланная тем юным, еще не оперившимся, еще не до конца прогнившим, но уже «видящим» гением, этим мальчишкой из провинции, этим Рембо. Семнадцать лет, господи милостивый! И он уже видел ад, чувствовал его смрад на своих губах, его жар в глазах. Он послал это письмо тому другому, Верлену, уже известному, уже погрязшему в собственном болоте брака, меланхолии и тихого, удушающего отчаяния, но еще способному узнать огонь, когда тот бьет в глаза, способному услышать зов бездны, когда она шепчет его имя через строки, через этот нечеловеческий, этот «слишком» человеческий крик, заключенный в словах юнца. Словах о «Видении», о новом языке, о поэзии, что должна быть «ясновидящей», о жизни, что должна быть «прожита», а не прозябать.