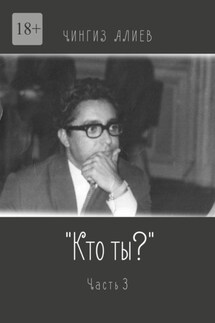«Кто ты?». Часть 2 - страница 39
– Прямо-таки в коммунизме?
– Ну, он так не говорил, но описал что-то похожее. Несколько раз я пытался возразить и объяснить ему марксистско-ленинское учение построения коммунизма, но его бархатный голос очень уверенно гнул своё, и мне приходилось молчать и слушать. Так мы, наверное, и расстались бы, не выдвини он ещё одну идейку.
– Какую же?
– Счастье и богатство, говорит, вздор.
– Как вздор?
– Так. Вздор, говорит, и якобы они даны проклятым людям в качестве компенсации. В общем, по его словам, настоящие счастливые люди – это бедняки и несчастные: ну, всякие там больные, хромые, кривые и прочий сброд. Они, говорит, избранные Богом люди, и он дал им последнее испытание, а потому чем на вид несчастливее человек, тем он ближе к истине, и каждый такой человек обязан постоянно благодарить Всевышнего, молиться Господу, чтобы он дал ему ещё больше несчастья. «Только через несчастья и очищения мы приобретаем бессмертие», – утверждал он. По его словам выходило, что я, вместо того чтобы дрыхнуть, должен стоять на камне около скамейки и просить Господа, чтобы он отнял у меня и это убогое пристанище. А те скудные сбережения, что находятся у меня в кармане, надо отдать богоугодным людям – ну, таким, как он, например, – ради всех святых и, оставшись без ничего, наслаждаться своим несчастьем, то бишь, «настоящим счастьем» в ожидании грядущего бессмертия.
– Н-да, запутанная философия. И что же ты ответил на это?
– Я?
– Ну да.
– Я искал глазами что-нибудь этакое, увесистое, чтобы трахнуть его по голове, но ничего такого вокруг не было, а книгу, что я положил под голову, было жалко. Но я всё же отомстил ему.
– Каким образом?
– Я начал декламировать стихи.
– Стихи?
– Так точно. Не какие-нибудь там первопопавшиеся, а самого Самеда Вургуна. Войдя в раж, читал я стихи, всё больше и больше горячась. Он встал и, обозвав меня несчастным комсомольцем и безбожником, поспешно удалился от меня.
Всё это Таваккул рассказывал с ухмылкой на устах, а закончив, начал громко и долго смеяться, вспоминая то одно, то другое высказывание батюшки, а главное – его бегство. Так продолжалось долго. Во всяком случае, засыпая, я всё ещё слышал его смех.
Утром следующего дня я уже стоял у двери известного нам кабинета директора сельскохозяйственного института, временно приспособленного для приёма документов у абитуриентов. К девяти часам начали приходить члены приёмной комиссии. Они недоумённо смотрели на меня и проходили в кабинет. Наконец появился директор с той женщиной, которая непосредственно принимала документы. Кстати, фамилия её была Полякова и она работала секретарём-методисткой в институте. Её сын Поляков Леонид, очень воспитанный и интеллигентный юноша, впоследствии учился со мной в параллельной группе на том же факультете, что и я, но в русском секторе.
Директор остановился около меня и, не говоря ни слова, взял меня за плечо и повёл в кабинет. Сев на своё место, он спросил:
– Ты не понял, что мы говорили тебе вчера?
Я молчал.
– У тебя есть родители? – изучающе посмотрев на меня, спросил он.
– Мать есть.
– А отец?
– Отец погиб на войне.
– Очень жаль. Мать работает?
– Нет.
– А кто вас содержит?
– Дядя. Ещё нам дают паёк за отца.
– Отец был офицером?
– Да.
– А где работает дядя?
– Он директор школы.
– Это он дал тебе этот аттестат? – указывая на газетные обвёртки, которые я держал в руке, спросил он.
– Нет, он директор семилетней школы в колхозе.