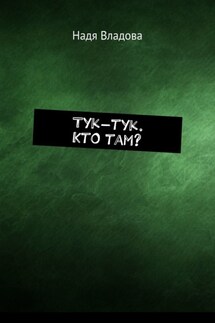Культурология. Дайджест №1 / 2014 - страница 15
Этот пассаж уместно закончить репликой Вл. Маркова. В своей статье «Экспрессионизм в России» он писал: «…существовал ли русский экспрессионизм? На этот вопрос… можно ответить двояко. Во‐первых, предпринимались попытки пересмотреть творчество некоторых ведущих деятелей русской литературы, или еще проще, снабдить его табличкой с надписью “экспрессионизм” независимо от того, считали ли они себя сами таковыми или нет. Во‐вторых, экспрессионистами названы многие художники и театральные деятели дореволюционного и советского периода…»134
Совершенно очевидно, что В. Марков ставит под сомнение существование русского экспрессионизма. Еще категоричнее точка зрения Ш. Бойко – автора статьи «Почему экспрессионизм обошел Россию и русский авангард?» Бойко, прослеживая маршрут экспрессионизма, заданный в Германии, отмечает два направления, одно из которых лежало на пути в Будапешт, другое – Краков, Познань, Львов. Оба вектора возникли не случайно: венгры тяготели к немецкому языку, немецкой духовности, а три польских города до Первой мировой войны входили в состав немецкоязычных стран: Германии и Австро-Венгрии. И хотя в России в начале века так же, как и в Германии, назревала пора кризиса, наступало время декаданса, движение экспрессионизма в Россию преградил мироощущенческий шлагбаум. Душевная настроенность русского человека, известная патриархальность, принадлежность к той учительной культурной традиции, которая в течение всего XIX cтолетия была характерна для русской литературы и религиозной русской философии, наконец, православный опыт – все это отторгало крайности экспрессионизма и, прежде всего, индивидуализм, утонченную, чуть ли не болезненную эротику