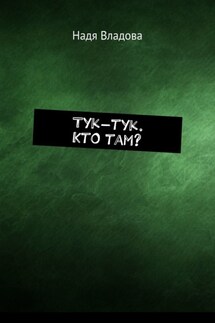Культурология. Дайджест №1 / 2014 - страница 4
Вероятно, разговор о классике не должен стирать границу, отделяющую художественное произведение от эстетического объекта45: это грань между смыслом и значением, между смыслопорождением и означиванием, между референцией и бесконечной игрой знаков, обособившейся, как сказал бы М. Фуко, от темы выражения. И все же наличие границы не может исключить появления в сфере означивания своей специфической классики. М. Дюшан, если придерживаться политкорректности, тоже классик, только не нужно его полагать рядом с Рембрандтом или Ренуаром. «После полотен Ренуара, – заметил М. Мамардашвили, – существует мир Ренуара, который нас окружал, но мы его не видели. А после его полотен он стал возможным. После Ренуара мы видим в мире женщин Ренуара»46.
Подобный критерий классики существует давно, но применим он только к автору художественного творения. «Есть человек до и после Шекспира»47, – пишет известный английский литературовед Х. Блум в своей книге «Западный канон». Как верно отмечает Алексей Цветков, эта книга представляет собой попытку «вернуть центр тяжести на прежнее место, с метода на предмет»48. Попытка в эпоху означивания, в эпоху «превращенных форм сознания» (К. Маркс), когда язык, в том числе язык искусства как универсальное средство трансцендирования человека, поддается голой воле и служит, по словам М. Хайдеггера, орудием нашего господства над сущим49, чрезвычайно актуальна.
Об этом, по принципу «от противного», свидетельствует и недавняя статья А. Якимовича «Изящное искусство непослушания. О специфике Нового времени»; на ее страницах автор высказывает не сегодня и не вчера сложившееся мнение: «Двадцатый век выламывается из Нового времени»50. Якимович считает эту ситуацию результатом «конструктивной недоверчивости по отношению к человеку», которая, по его мнению, возникала, развивалась и отзывалась в творчестве мастеров Нового времени от Возрождения до авангардизма. Точка отсчета, избранная Якимовичем, вероятно, может быть оспорена, ибо Возрождение, по крайней мере в Италии, начиналось с попытки примирения природы и Абсолюта, иными словами, откровения Бога в истории и античной философии природы, с формирования антропоцентрической картины мира51. На Севере же, как замечает исследователь, «способность взглянуть на Средневековье критически, тем самым преодолевая его, рождалась из раздвижения и обособления его же полюсов»52. Но и в этой ситуации классика Ренессанса выдвигала в качестве своего героя не монохромного человека, «небесного» или соприродного, тяготеющего, как сказал бы Ницше, к «земле», каким он и видится автору в «изящном искусстве непослушания», якобы свидетельствующем о многовековой дихотомии в художественном процессе, состоящей из традиции и «непослушания», а проблематичного: таков Макбет, Дон Кихот и т.д.53 Другое дело классицизм, где у Мольера «Скупой скуп – и только» (А. Пушкин), но у Шекспира Шейлок скуп, чадолюбив, сметлив, мстителен, остроумен…
«Мы видим, – пишет Якимович о XX столетии, – как из искусства шаг за шагом устраняются механизмы культуры… нарастают соматические составляющие. Художник все более склоняется к тому, что надежная истина – это телесная истина. Ориентироваться надо не на вечные истины и Абсолют (т.е. конструкты культуры), а на глаз, руку, вестибулярный аппарат, эротическое переживание и т.д. …Нарастает недоверие ко Второй природе, т.е. культуре. Соответственно акцент делается на Первой природе, на биокосмических компонентах психики. Художники приходят к тому, что “вещи важнее слов”. Нужны не слова, а реальные вещи в реальном ощущении нашего тела»