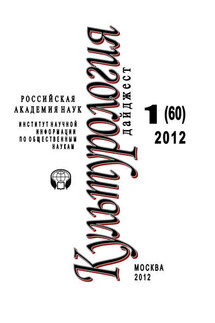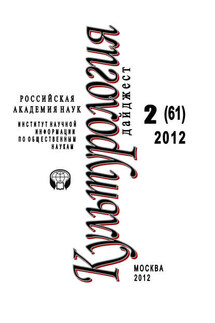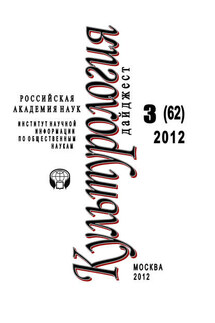Культурология: Дайджест №2/2012 - страница 17
Идеи Малларме о «музыкальности всего» были восприняты Ахматовой не только непосредственно из стихов и статей французского поэта, но и через творчество Анненского. Проза Ахматовой часто имеет сложную символическую структуру, а не просто фиксирует то или иное событие или переживание. Многие записи в рабочих тетрадях обладают «сквозной, излучающей непонятный свет», глубоко уходящей в ассоциативные ряды природой. Они тяготеют к законченности прозаической миниатюры, вклиненной в списки звонков или программы дел.
Тексты почти всех ахматовских дневниковых записей тяготеют к прозе; они вырываются из контекста и бытового, и творческого, претворяясь в совершенно особый прозаический жанр, сочетающий настоящее, прошлое, смешивающий времена, ассоциации, подоплеки, рождающий некое единое сложное время жизни души.
По своей жанровой природе дневниковая запись Ахматовой тяготеет к фрагменту. В дневник как таковой изначально заложена фрагментарность, отражающая фрагментарность самой человеческой жизни во всех ее проявлениях. Форма дневника оказывается плодотворной для создания прозаического фрагмента.
Для Ахматовой тема фрагмента была связана не только с тенденциями современной литературы. Незавершенные прозаические отрывки Пушкина она рассматривала как законченные тексты, в которых автор сказал все, что хотел сказать. Пушкинский фрагмент, признанный Ахматовой дерзким открытием Пушкина, самостоятельным литературным жанром, фактически легализовал для нее путь, принцип, ставший неотъемлемой составной частью ее собственной поэтики.
Каждая дневниковая запись Ахматовой по сути своей является «вспышкой сознания в беспамятстве дней», т.е. это не дневник как таковой, а форма дневниковой записи, удачно найденная для прозаического фрагмента. С ее помощью Ахматова ищет для себя новых путей в прозе. Ее спутники – и Бодлер с его «чудом поэтической прозы», и Малларме с «музыкальностью всего», и Анненский, писавший о таинственном союзе поэзии и прозы.
Ахматовские «дневниковые записи», ахматовская проза из записных книжек есть ряд вспышек: ряд пушкинских фрагментов, написанных с учетом «литературного карбонаризма» Проклятых поэтов и их младших современников.
О.В. Кулешова
ПОЭТ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ: ПОЭТИЧЕСКИЕ АВТОПОРТРЕТЫ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА
Т.Л. Скрябина
Владислав Ходасевич входил в литературу в тот момент, когда энергия стихов утекала в жизнь, а театрализация всех сфер творчества диктовала смену обликов, поиск масок и поз. Символизм находился на подъеме и предполагал готовность к бесконечности перевоплощений. Владислав Ходасевич уже в первых поэтических опытах заявил неприязнь к «театру жгучих импровизаций», ко всякого рода кричащим эффектам и «стрельбе». Свой первый сборник «Молодость» он открывал строками: «Я к вам пришел из мертвенной страны»17, а завершал утверждением: «Будьте покойны: Все тихо свершится! / Не уходите: не будет стрельбы!»18 В московском литературном кругу эти и другие стихи Ходасевича были приняты сдержанно, его причислили к второ– и даже третьеразрядным поэтам, идущим вслед за Брюсовым, Белым, Сологубом. Но соблазна писать «под символистов», как известно, Ходасевич избежал, так же как и другого декадентского искушения – придумывать себя, менять образы личности. В его внешности проступала определенность, законченность, строгость облика, мало свойственная поэтам вообще и символистам в частности. Художник В. Милашевский, встречавший Ходасевича в коридорах Дома искусств в голодном и холодном Петрограде 1921 г., характеризует его как «человека, который никогда никого не изображал, <…> и высшей доблестью считал быть самим собой»