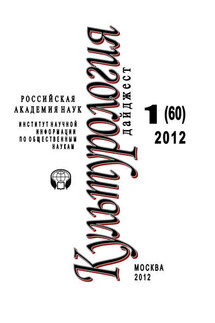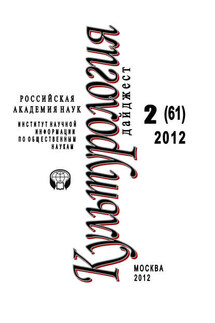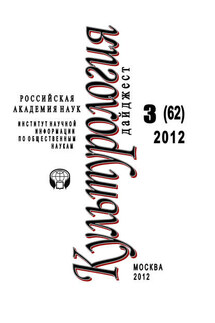Культурология: Дайджест №2/2012 - страница 16
Для Ахматовой личные записи – это разрыв в броне личности. Дневник в ее понимании – лазейка, обнажающая тайны своего создателя. Благовоспитанность, усвоенная с детства, заставляла Ахматову «засупониваться», отмеривать каждый шаг, чтобы в прозе не выдать себя.
Она не вела дневника, как пытаются доказать некоторые исследователи. Мы имеем дело с записями дневникового характера, разбросанными в рабочих тетрадях, в которых прорывается нечто личное.
В записных книжках Ахматовой много записей сугубо делового характера. Среди них нет ничего лишнего, что могло бы кому-то повредить. Зато есть обиняки, намеки, обрывки фраз, в которых все полусказано, полуутаено.
Так устроен ахматовский мир, что в нем нет важного и неважного, значительного и проходного: все исполнено тайного смысла, пусть даже скрытого. В этом мире все имеет непосредственное отношение к поэту, причем раз начавшись, тема часто находит отзвуки в дальнейших записях.
Море, символ бесконечности; тут же мотив молитвы; больница, которая для старого и больного человека может стать последней; а все в целом – смерть, стоящая рядом. Разговор о серебре связан со смертью и символикой зимы – зима тождественна смерти.
На первый взгляд записки Ахматовой – чисто дневниковые записи о конкретных впечатлениях, но в их контексте автором создается как бы второй план реальности, о котором она не говорит прямо, но подразумевает его как бы для себя. За внешним слоем разговоров и беглых записей впечатлений и воспоминаний встает порой слабо обозначенный глубинный слой, в котором преобладает философский мотив смерти, размышляется о предстоянии ей. Это уже не просто дневниковая фиксация событий, фактов и мыслей; это сложно организованная проза, созданная по своим собственным законам. Появляется начало, представляющее собой уже не фиксации мелькнувших впечатлений, но их поэтическое бытие, претворенное в слово.
Особое место занимает в творчестве Ахматовой музыка. Музыка для Ахматовой – некий высший пласт чистого бытия, освободившегося от быта, мелких деталей повседневности, необходимостей, последовательностей. Она становится выходом в чистую эмоцию, напряженную жизнь души, которая, в свою очередь, выражается в поэтическом или прозаическом тексте. Немецкая классическая философия прошла мимо Ахматовой, обогатив ее творческие представления о мире классическим ницшевским образом «духа музыки», ставшим значительным для молодой Ахматовой.
Однако свои представления о духе музыки как первопричине поэзии она черпала из другого, гораздо более близкого ей источника – французской поэзии. Мысль Малларме о том, что «музыкальность всего» лежит в основе творческого восприятия мира, была близка Ахматовой.
Ахматовский прозаический текст, в том числе и дневниковые записи, живет по законам поэзии, и нужно читать его не в словах, но в их сочетаниях, ритмической организации, промежутках между ними.
Дневниковые записи Ахматовой пронизаны музыкой и ритмом. Ритм образуется подтекстами, стоящими за словами. Повторение мотива серебра и его тайные смыслы, подразумевающие эсхатологию, создают глубину поэтического образа, для которой неважно, воплощен ли он в стихотворном или прозаическом слове. Это «синие огоньки под текстом», о которых говорила Ахматова, возникающие во внутреннем пространстве текста и превращающие описание в переживание, выводя через него читателя в некий высший пласт осмысления художественного текста.