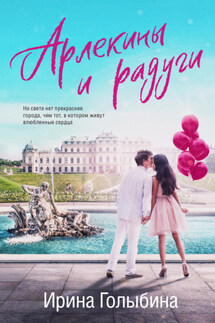Культурология: Дайджест №3/2012 - страница 16
Принятие новых «текстов» – программы партии, «кодекса строителя коммунизма», постановлений съезда и пленумов и т.д. – не меняет эмоциональной доминанты веры в их реализуемость, ожидаемой от аудитории. Приказ уступает место призыву, а призыв уже по своей риторической природе обязывает в большей степени к эмоциональной убедительности, а значит – и «лирике». Не удивительно поэтому, что как раз на те самые годы, в которые, по сетованию Слуцкого, «лирика» оказалась «в загоне», приходится небывалый ни до ни после в истории СССР всплеск публичной поэтической деятельности и массового интереса к поэтическим выступлениям. Важно и то, что первоначально в таких выступлениях власть не видит крамолы. Можно сказать, что на какое-то время эта идеология – при всех ее очевидных технократических приоритетах – позиционируется в качестве «лирической».
Приподнятость эмоциональной атмосферы конца 1950-х – начала 1960-х годов многократно описывалась исследователями советской культуры. Вместе с тем очевидно, что репрезентация таких настроений в литературе, искусстве, кинематографе всячески поощрялась пропагандой.
К концу 1960-х годов стремление гуманитариев, претендовавших выступать в роли «экспертов», причастных вместе с представителями естественных и точных наук к технократической элите, выразилось в создании особого – логико-математического и структуралистского – языка (мета) описания предмета своего исследования. Что же касается активности «физиков» в сфере литературы и искусства в 1960-е годы, то она проявляется в набирающих популярность юмористических «капустниках», движении авторской песни, литературных сообществах, конкурсах КВН, многие из участников которых были по своему образованию специалистами в точных и естественных науках.
Но социальное приобщение «физиков» к «лирике» сопутствует и другому, гораздо более амбициозному идеологическому посылу, эффект которого будет осознан по мере становления диссидентского движения. Знаковым в этом отношении стал выход коллективного сборника «Физики шутят»11 и его расширенной версии «Физики продолжают шутить»12, составители которого стали широко известны из-за гонений, которым они подверглись за свои политические убеждения. Последующая диссидентская деятельность математика И.Р. Шафаревича и физика А.Д. Сахарова придала «лирическим» мечтаниям «физиков» идеологически очерченный, а в случае Сахарова – политически предосудительный характер.
К.В. Душенко
ДВОЯКОВЫПУКЛАЯ СТРАТЕГИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ИДЕОЛОГА13
Р.А. Гальцева
Среди многочисленных и основательных работ сборника, посвященных мировоззрению Солженицына, мною выбрана статья, которая выделяется из общего собрания текстов своим провоцирующим содержанием и тем вызывает желание ее оспаривать. Одновременно позиция, выраженная в ней, оказалась весьма репрезентативной для восприятия Солженицына: она была растиражирована оппонентами писателя на Западе (а после открытия печатных шлюзов с начала 90-х – и в нашей стране). Потому, сосредоточившись на этом примере, мне бы хотелось показать, какова же степень интеллектуальной основательности, а также – внутренняя установка этой распространенной интерпретации. Текст привлек мое внимание еще и весьма оригинальной стратегией.
Сборник, согласно характеристике его составителя американского профессора Эдварда Эриксона, собран по принципу «доскональной», но «в то же время уважительной по тону критики», в подтверждение чего приводятся статьи, вышедшие «из-под пера таких французских знаменитостей, как Клод Лефор, Раймон Арон, Ален Безансон и Жорж Нива» (1, с. 364). И по большей части это так. Однако в ряду этой не просто «уважительной», но даже и не «доскональной», т. е. не придирчивой, критики (а зачем ей таковой и быть, если речь идет о таком исключительном явлении, как Солженицын) имеет место не только резко отличное от всех остальных, но и весьма загадочное по форме высказывание.