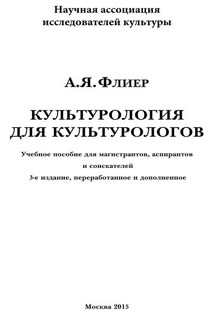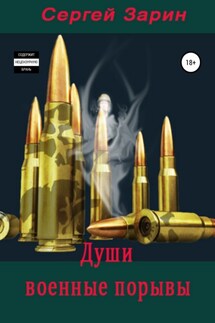Культурология для культурологов. Учебное пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей - страница 57
Интеллигентность в ее социально-функциональном преломлении – это интеллектуальная специализация сравнительно небольшой группы талантливых, образованных, широко эрудированных и специальным образом мотивированных людей на рефлексию и формулирование тех самых «правил игры» социального общежития, о которых шла речь в начале. Это особенный (эксклюзивный) социальный заказ, распространяющийся на очень небольшую часть населения. Ни одно общество не может позволить себе специализировать на этой рефлексии более 5 % сограждан. Ни в одной нации не найдется большего процента людей с требуемым уровнем природных интеллектуальных способностей, с соответствующей креативной психоэнергетикой, уровнем социальных амбиций и т. п., и соответственно интеллигентская субкультура не может быть актуальной даже для большинства городского населения.
В отсутствии среди населения России сколько-нибудь заметного «среднего слоя» – по материальному достатку и социальным притязаниям – проблема формирования параметров общенациональных стандартов социальной адекватности и культурной компетентности приобретает виртуальный характер. Теоретически эта задача должна решаться в рамках двух параллельно развивающихся тенденций. Во-первых, в виде стихийного процесса нормативно-ценностной адаптации населения к реалиям социально-экономического состояния общества. Какие бы великодержавные амбиции ни волновали умы и сердца наших сограждан, совершенно очевидно, что рано или поздно эти амбиции подвергнутся существенной корректировке на основании признания реальных возможностей страны с точки зрения ее места в общем мироустройстве. Только люди с расшатанной психикой могут претендовать на великодержавный статус при том уровне экономического достатка основной массы населения, который в настоящее время наблюдается. А это, в свою очередь, задает определенные социальные ожидания от жизни и культурные требования к себе и окружающим, которые и станут наиболее объективным выражением исторически возможной (на данном отрезке времени) культурной компетентности основной массы населения. Разумеется, интеллигенция сохранит культурный уровень, отражающий пиковые достижения общества в прошлом, и будет беречь его «до лучших времен». Во-вторых, параметры исторически и социально доступной для данного времени культурной компетентности должны отслеживаться, систематизироваться, рефлексироваться и публично формулироваться усилиями специалистов, профессионально изучающих социальные процессы в стране и стимулирующих скорейшее созревание и внедрение необходимых ценностных ориентиров в массовое сознание, трансляцию их подрастающим поколениям посредством воспитания и образования.
Собственно, это и есть основная задача специалистов-культурологов, которых следует готовить не только для охраны художественных ценностей, но и для изучения проблем культурной компетентности людей разных национальностей и социального положения, живущих в одной стране, по единым законам и – желательно – в единой культурно-ценностной системе. Совершенно очевидно, что понимаемая через такие социальные функции культурология наиболее естественным образом тяготеет именно к системе образования. В каком-то смысле культурологию даже можно рассматривать как науку, дополняющую педагогику: педагогика разрабатывает методы трансляции учащимся фундаментальных знаний и актуальных образцов культурной компетентности, а культурология призвана формировать наиболее общее содержание той культурной компетентности, которая транслируется средствами педагогики. К сожалению, до подобной образовательной идиллии еще далеко; но культурология в целом развивается и в этом направлении. А это вселяет надежду, что профессиональная рефлексия по поводу феномена культурной компетентности и социальной адекватности современной личности рано или поздно будет востребована обществом.