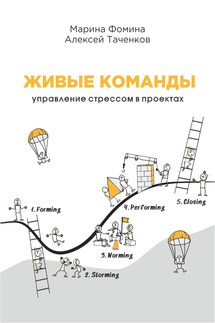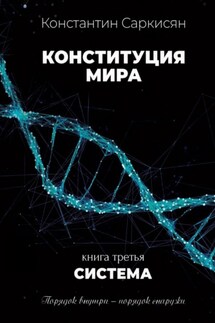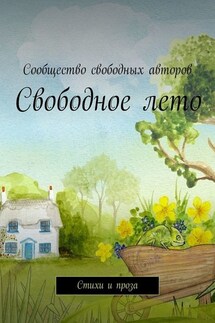Линия жизни. Мозаика обстоятельств - страница 5
Да, есть регламенты и технологии послеоперационного наблюдения и выхаживания.
Но это уже, в каком-то смысле, – дело техники. Своего рода техники безопасности.
А главное – оно именно в критический момент и в острый период решается.
Дарья Акулова:
– Чего прибавилось после операции: гордости или уверенности?
Сергей Акулов:
– Опыта. Хотя и до этой операции я был далеко не начинающим практикующим хирургом: иначе бы просто не взялся за то, за что взялся. Про подобные ситуации наш народ давным-давно высказался: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Тут, Даша, есть ещё такой существенный момент: в маленьких городках хирурги, да и не только они, буквально вынуждены быть весьма универсальными. Жизнь заставляет.
Это в крупных городах – широкий простор для узкой специализации. А в провинции – как говорится, и швец, и жнец…
Интеллектуальные мускулы
Дарья Акулова:
– Возвращаясь к теме книг, которые всегда много значили и значат для нас обоих.
Была какая-либо книга, которую можно особо выделить в плане её влияния на твой выбор медицины как дела всей жизни?
Сергей Акулов:
– Книг было немало. Но первая, что приходит на память: «Записки врача» Викентия Вересаева. Предельно искренняя, полная откровенность которой, по словам самого автора, вызвала среди некоторой части читателей бурю негодования, эта книга во многом определила моё отношение и к практической медицине, и к процессу организации здравоохранения как системы, предельно важной для общества.
Дарья Акулова:
– А почему ты вообще стал читать книги про медицину?
Первая случайно на глаза попалась? Кто-то подарил или посоветовал?
Сергей Акулов:
– Книги – это уже следствие того триггера, о котором мы говорили с тобой в самом начале. На старте, во многом благодаря подобным личным проблемам, как та история с сальмонеллёзом, определяется вектор.
А уже дальше на него, как мышцы на скелет, накладывается всё остальное.
И в этом плане книги – своего рода интеллектуальные мускулы, которые прокачиваешь на пути к цели.
Дарья Акулова:
– Тогда, если не против, предлагаю обсудить ключевые моменты «Записок врача», первое издание которых вышло в Петербурге в апреле 1901-го.
Учитывая динамику минувшего века, а тем более – века нынешнего, книга может показаться достаточно архаичной и жестко привязанной к своему времени, когда и сама медицина, и отношение к ней были совсем другими, нежели сейчас.
Однако неслучайно книга выдержала множество изданий и была переведена на английский, французский и немецкий языки, а Иппей Фукуро даже перевёл её на японский: она поднимает многие вопросы, актуальные до сих пор.
И возможно, способна стать своего рода камертоном нашего с тобой разговора.
Сергей Акулов:
– Почему я должен быть против, Даша?
Мне интересно твоё мнение о болевых точках самой медицины как явления со всех точек зрения: научной, практической, этической, социальной…
Дарья Акулова:
– В предисловии к первому изданию своей книги Вересаев пишет: «Мы так боимся во всём правды, так мало сознаём ее необходимость, что стоит открыть хоть маленький её уголок, – и люди начинают чувствовать себя неловко: для чего? какая от этого польза? что скажут люди непосвященные, как поймут они преподносимую правду?».
Как ты считаешь, много общего между формулировками «горькая правда» и «горькое лекарство»?
Сергей Акулов:
– Давай начнём с Пушкина. Наверное, все слышали эти слова Александра Сергеевича: «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!»