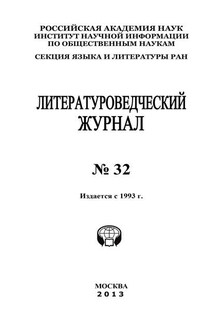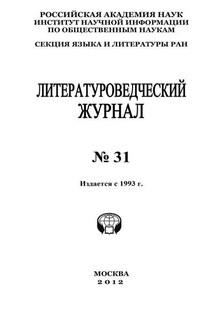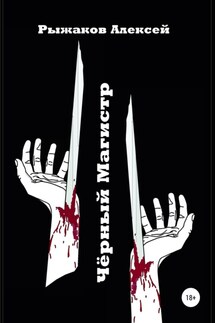Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого - страница 8
Толстой высказывает убеждение в том, что «изменение (социального устройства. – О.К.), сделанное насилием, неизбежно приведет к следующему насилию. Изменение может совершиться только при подъеме общественного сознания. Общественное сознание понижается всякой революцией (2 октября 1906; 263).
Социальная направленность философских размышлений писателя о судьбе России раскрывается в ситуативно-нравственном контексте: «То, что случилось в России, подобно вот чему: швейцар в игорном доме понял, что его хозяин обирает посетителей, увидал, что деньги из карманов посетителей переходят в карман хозяина. Ему это понравилось, и он решил сделать то же, но самым простым образом: узнав, что у человека есть деньги, он прямо полез к нему в карман, оказалось, что сосед этого человека заступился и отколотил швейцара. И он удивляется, отчего другим это удается, а ему нет (27 августа 1905; 202).
Концептуальная параллель категорий «свободы–освобождения» в сопоставлении с антитезой «порабощение» анализируется в социально-нравственном аспекте и обретает у Толстого своеобразную интерпретацию необходимости освобождения человека от корысти. Подати, по мнению Толстого, являются самым могущественным орудием порабощения, и потому освобождение от участия в собирании податей при освобождении от корысти, готовности к бедности, отказе служения богатым могут предоставлять человеку освобождение от порабощения (1 марта 1909; 393).
Концепт демократии управления интерпретируется как социальный закон, заключающийся в представлении демократии управления, которая на определенном этапе эволюции будет доведена до того уровня, когда все люди будут участвовать в управлении, тогда не будет и управления, потому что люди будут каждый управлять собой.
Управление как социальное явление рассматривается Толстым с двух возможных позиций, оцениваемых им негативно: большинство под властью одного или немногих; меньшинство под властью большинства. При условии, когда все управляют всеми – управления нет (24 августа 1906; 253).
Несправедливость и насилие исследуются Толстым в контексте «устройства» (государственного. – О.К.) жизни. Все люди, отмечает классик отечественной литературы, ни на какое устройство никогда не будут согласны, и заставить их исполнять установленное устройство можно только насилием, право же на насилие не могло помешать и не мешает людям отступать от установленного устройства и совершать насилия друг над другом; в свою очередь, установленное насилием устройство увеличивает теми, кто пользуется насилием, количество людей, насилующих друг друга (2 февраля 1907; 288). Нравственная позиция человека заключается в том, что безнравственность правительства не должна им поддерживаться (30 марта 1905; 183).
Рефлексия над отношениями между русским народом и властью позволяет писателю сделать вывод о том, что русский народ избегает власти, удаляется от нее, он готов предоставить ее скорее дурным людям, чем самому замараться ею, потому что это лучше для русского человека, чем быть вынужденным употребить насилие. Мысль писателя о том, что положение человека под властью тирана гораздо более содействует нравственной жизни, чем положение избирателя, участника власти, приводит его к заключению, что данная особенность составляет основание для деспотизма. Осознание безнравственной власти тирана и нравственной жизни человека под властью тирана, по мнению Толстого, свойственно не только славянам, но всем людям (30 марта 1905; 183). Толстой приходит к выводу, что деспотизм и насилие в большей степени зависят от разъединения людей (24 июля 1904; 143).