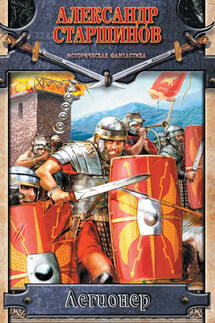Мания. Книга вторая. Мафия - страница 63
Видел он и обыкновенный оппонентский занос, который чуть не смел Ельцина с арены борьбы за власть. И совершенно не понимал, почему Горбачев не дал ход в пропасть летящему тарантасу, неожиданно принявшему демократический облик закоренелого консерватора.
Конечно, примирение имело кратковременный характер. Ибо прозвучавшие объяснения, собственно, никого не убедили, что они искренни. А все определения были, по меньшей мере, странны.
Резонно размышлять так: Ельцин Горбачеву нужен был как образчик со ссылкой на прошлое. Вот, мол, был сибирским бузотером, потом пообкатался в Москве и теперь более сдержан и даже мил.
Не ущемляя ничьих конкретных интересов, его можно держать подле себя в роли когда-то смиренного дрессурой медведя.
А коли программа будет безнадежно провалена, то можно напомнить, кто ее пытался осуществить, и в ясной форме объяснить: мол, не доучли, что людскими делами должен заниматься человек.
И еще по одной причине берет Горбачев Ельцина под свою защиту. Он как бы этим открывает новые гарантии: «Ошибайтесь, товарищи! Только чтобы это у вас получалось как можно искренней!»
А на самом деле все это попахивало структурным кризисом.
Однажды они разговорились о диссидентской участи.
– Неужели, – спросил он, – ради спасения собственной судьбы человеку достаточно переменить место жительства?
– Нет, – ответил Прялин. – Но эти игры для посвященных. Только некоторые – и то по глупости, – охваченные дикарской способностью все видеть впервые, затвердели в косноязычии, что на Западе рай да и только.
– Но ведь люди там живут неплохо, – поупрямил свой взор Горбачев.
– Спору быть не может. Но там нет вот этих ураганных идей, от которых захватывает дух. А автоматизация восприятия всего, что происходит вокруг, всегда до помрачения рациональна. Одна француженка мне сказала, что неслучайность – самое пресное, что есть в ее жизни. И ратовала за то, чтобы торжествовала животность. «Если тело позволяет, – повторяла, – можно ходить голой».
– Значит, у нас более естественный человек? – уточнил Михаил Сергеевич.
Видимо, все это ему было важно знать затем, что культурные ассоциации многих, кто в свое время оставил страну, как бы не вписывались в то мифологическое поле, которое подразумевало широчайшую литературную эрудицию и метафору еще не рожденного опыта.
Все можно подвергнуть анализу, кроме непреодоленной безжалостности: а как было бы лучше – жить там, где критика культуры ничего не дает, или считать осуществимой мечту, которой не было?
Ведь жадные и завистливые люди везде одинаковы. А анархичный мужик при любой демократии будет недоволен властью. Ведь понятие свободы сугубо условно-символическое. Потому сближение позиций идет так болезненно.
– Мне однажды попалась, – начал Прялин, – одна полуамериканская книга, в которой фантазировалось, как, поправ основной принцип брезгливости к бытию, как правило, отчуждающему человека, содержательно пустоватые люди, призвав все средства художественного изображения того, что хотят, пытались сами улучшить свои чувства.
– Но это чистая конъюнктура! – вскричал Горбачев.
– Возможно. Но именно она вскрывает новый жанр, рисуя бытовую картину, отличную от той, что была определена сказочным сюжетом.
– Ницше пытался доказать несовместимость христианства и культуры.
– Страсть объяснить и старание сделать это же самое – совершенно разные вещи. Знающие тексты талмудисты могли завести невежественного человека в такие дебри, откуда не было никакого выхода.