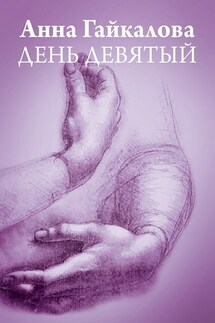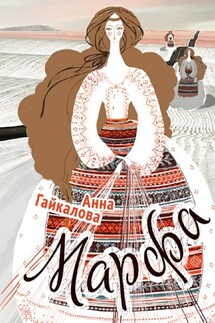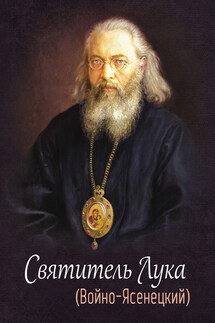Марфа - страница 26
Спускаюсь вниз и наблюдаю гонки с преследованием. В хозяйственной пристройке что ни шаг, то преграда. Я в этот мир не погружаюсь, там властвует мой запасливый супруг, отчего передвигаться без риска для жизни внутри невозможно. Муж и сам это понимает, поэтому ворчит на кота и грозит ему дубинкой.
– Сейчас поймаю, шкуру спущу! – лютует тот, кто только что спасал птичье гнездо и вообще всю жизнь проработал спасателем.
Думаю: а когда я была в роли домашнего любимца? И меня осыпали ласками и дарами, покуда мне не пришло в голову открыть запретную дверь?
Неповоротливый мой муж исполняет роль строгого смотрителя. Он никак не может справиться с задачей и свирепеет. Иду утешать – пора и мне поработать спасателем.
– Давай я его достану.
– Ты там убьешься!
Наклоняюсь под стремянкой, огибаю какую-то железную конструкцию, перелезаю через ящик и вижу ошарашенного кота. Он явно ушам своим не верит – никто в этой жизни с ним таким тоном не разговаривал.
– Иди сюда, мой хороший, – зову его, хоть и знаю: бесполезно, не сдвинется с места кот.
Впрочем, не двигается – это хороший знак. Если кот не удрал, значит, позволяет себя достать. И я его достаю, а потом с трудом прежней дорогой возвращаюсь обратно.
Сердитого мужа целую, а кота уношу в дом и даю ему свежих лакомств.
Хорошо, что я не домашний любимец.
Говоришь просто, но сбиваешься и взлетаешь. И вот паришь вопреки земному и принятому, влечешься, несмотря на условленное.
Хмурилось, хмурилось, вдруг – раз!– закат. И вспыхнули кроны, засияли каждым листом. Тут и объем, и полнота, и прозрачность. Каждой травинкой навстречу уступающему солнцу отзывается земля. «Ты покидаешь нас, – поет живое, – и придет ночь, потому что нам никак нельзя без ночи. Но сейчас ты еще с нами, и эта песня в твою честь!»
Звенит еле слышно, трепещет. Звук, словно крылья бабочки, будто летящие зонтики одуванчика, кружащиеся семена. Торжественность и скромность в преддверии тишины.
На соседнем участке – пропеллер, прилаженный к высокому шесту. Замер, не колыхнется. У облепихи одна ветка ходит: вверх, вниз, вверх, вниз. Ни птички на ней, ни жука покрупнее. Живет ветка – сама себе правило.
От земли тянет холодом, нижней водой. Той самой, что тяжелит крылышки мошек, чтобы ласточки низко летали. Трава полегла, изломалась, приткнулась.
– Где бы хлебушка добыть, не одолжите?
– А берите, у нас с запасом.
– За сколько?
– Так берите, хлеба много.
– Так нехорошо. Неправильно.
Смотрю из-за забора – одна идет к другой, пакет прозрачный в руке, в пакете желтое.
– Вот вам за хлеб, городские, принимайте, чтобы не в долг.
– А это что за такое?
– Зверобой на росе собранный, в нужный час. Пейте, чтоб животом не маяться, мы тут отродясь пьем, хворобы у всех разные, но чтобы животом – ни-ни.
– Спасибо! Только вот непонятно: почему просто так нельзя дать, если много?
– Дать-то можно, брать не след. А если взял, себе запомни, чтоб надежней вернуть.
– Почему же?
– Когда много в долг, ум сначала ничего, а потом помрачается. Туманный становится, глядь – а ты ему не хозяин уже.
– Так получается, это мы хозяева умам нашим?
Лучи уже удалившегося за горизонт солнца высвечивают розовым другой берег реки. Река словно блеклой накидкой покрывается, а небо, наоборот, сияет, переливается перламутром, от синего до розового, с желтым, с рыжим, с золотым.
Летят по небу воздушные шары праздничных дней. Умы правят своими людьми, а небо светится и ждет ночи.