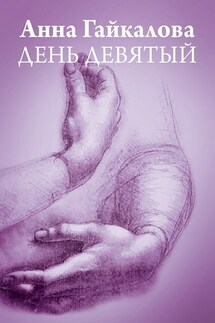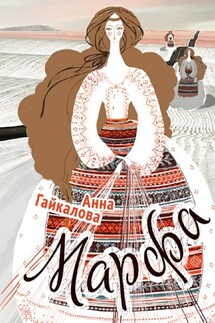Марфа - страница 38
– Успели спасти храмы, и леса успеют.
– Смотри, а вот же он, батюшка перед храмом. И с ним мальчишки, женщины.
Муж не выходит из машины, я одна вышла. А они уже машут руками:
– Вернулись?
Иеромонах идет со мной в храм, пропускает первой. Вхожу, крестясь, отдаю, что принесла.
– Напишите своих, оставьте записки, – говорит он и берет из моих рук, откладывает в сторонку.
– У меня много. Детей, внуков, крестников, близких – важных.
– Пишите всех, – говорит. – А друзья есть? – И сам отвечает: – Есть, как не быть. Пишите всех друзей. Да усопших, усопших своих не забудьте.
Пишу, присев к низкому столику.
– А у нас в храме пчелы живут! – с радостью делится.
– Появились в округе пасеки?
– Одна далеко, а эти, видно, отбились, да в нишу, в стену – жить. Вот, стоит храм, и пчелы свои внутри.
Глаза прикрыла на миг и вдруг увидела, будто река передо мной, а на другом берегу Старец. Стоит, кивает медленно. Чуть улыбается.
– Благодать, батюшка.
– И то. Написали всех?
Написала всех, чьи имена вспомнила. Каждому будто в глаза заглянула, а потом только имя вывела.
Киваю.
– А наверху над крестом напишите – от кого.
– Как? – не понимаю. С таким не встречалась.
– Так и пишите: «от» и имя.
Добавляю в каждом листке, протягиваю. Он записки мои берет, перед грудью держит. Молодой, строгий. Ясный.
– О вас, обо всех, кто здесь, – и чуть вверх руку с листками, – молиться буду, пока я жив.
Сейчас и не вспомню, когда на моих глазах в последний раз выступали слезы.
Слышу пчелу. И вроде хочу отмахнуть, а знаю, нельзя. Стою смирно, жду, пока глаза высохнут. Пчела ползет по голой руке. Любуюсь молодым лицом иеромонаха, как своей личной гордостью. Глядит серьезно, вглядывается. Спокойно стоит.
Пчела снялась, а я кланяюсь, уходя. Он мне вслед:
– Приходите на службу завтра. И помните: на каждой литургии в алтаре обо всех вас мои молитвы. Пожизненно!
Себя выношу, земли не чуя. Снова Старца за рекой вижу.
К ночи покой, мы одни. Разъехались дети. Воздух густой, хоть трогай руками. Все облака растворились в безветрии, звезды выходят.
Спускаюсь в траву, иду по росе. Шаги считаю, сколько их там, в длину земли.
Всю траву скосили, убрали. За дальней березой яма, закидали ее. Что делать ежам? Фыркают рядом с кучей. Но спешат по делам прямиком к сену. После нашего ужина там для них угощенье.
За оградой крупные крылья, может, сова. Большой корабль проходит по главной реке, светит огнями. Есть еще река неглавная, по ней только лодочки.
В небо смотрю, а там россыпь. Северные звезды как будто круги в небесах пишут. Ниже, выше, крупнее. Вспышка, еще. Тихо. Небо вершит свою тайну.
Словно со мной те листки, что я отдала монаху, в лица смотрю и думаю, что теперь хорошо, хорошо будет. Детям, крестникам, внукам. Той, что так ждет ребенка. Той, что не хочет бороться. Той, что так страшно устала. Тому, кто не может решиться. Той, что отчаялась верить. Тому, кто сбился со счета.
– Видишь, – говорю последней, которая обманулась, и ее поглотил сумрак. – Теперь он будет молиться. Бог даст, тебя он отмолит.
Сова вернулась с криком. Сидит на заборе и вдруг – раз – топорщит крылья. Голову вниз, вид сердитый. Наверно, я ей мешаю.
Не наступить на ежа. Иду готовиться к службе, а ночь сове оставляю. И правда, скоро двенадцать.
Утро встречаю рано. Кот свесил с подоконника лапы, да и день еще не проснулся, тянет прохладу ночи, сквозь окна ее пропускает.