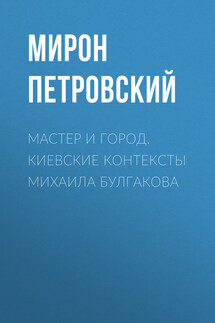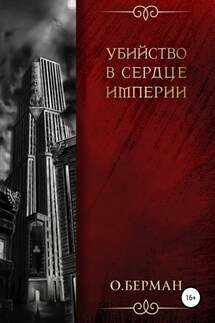Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова - страница 4
Поэтому, отправляясь в страну поэта, не приходится рассчитывать на широту охвата, на глубину проникновения: картина по необходимости получится фрагментарной или даже клочковатой, но между отдельными освоенными участками этой страны можно будет прочертить соединительные линии, пусть даже пунктирные. Кроме того, читатель будет прав, если между осуществленными главами этой книги представит себе главы пропущенные, задуманные, но по разным причинам не написанные, на манер «пропущенных», обозначенных, но даже не написанных строф «Евгения Онегина». Так, между первой и второй главой следовало бы поместить воображаемую главу «Коллекция Первой гимназии» – о гимназической библиотеке, несомненном питательном источнике будущего писателя, его ближайшем и влиятельном контексте. А в четвертую главу (о киевских театральных впечатлениях Булгакова) мысленно поместить раздел о киевской эстраде и ее замечательном порождении – Александре Вертинском, чьи песен ки стали одним из сквозных лейтмотивов булгаковской прозы и пьес[5]. В идеале книга должна была бы стать сопоставлением типологии творчества Булгакова с типологией «киевской культуры»; реально можно говорить только о сопоставлении некоторых элементов первой с отдельными же элементами второй.
У Пиксанова было основание снабдить свою книгу эпиграфом из Гёте «Wer den Dichter will verstehen, / Muss in Dichters Lande gehen»[6]. Гётевский эпиграф здесь так же уместен и значителен, как система гётевских эпиграфов к «Морфологии сказки» В. Я. Проппа, вышедшей первым изданием годом ранее, чем «Областные культурные гнезда». Совпадение едва ли случайное: оно (вместе с другими подобными фактами) свидетельствует, что интерес к типологической проблематике в ту пору назревал – то явно, то подспудно – у разных направлений отечественного литературоведения, на разных уровнях профессионализма.
В сущности, Пиксанов пытался – наивно и косноязычно – сделать по отношению к культуре городской, неканонической, инновационной примерно то же, что Пропп – по отношению к сельской, фольклорной, традиционной культуре (другое дело – работают ли те же подходы на городском материале). Подобно надолго забытой книге Проппа, книга Пиксанова тоже была на свой лад забыта. Забвению подверглось главное в ней – мысль о необходимости типологических подходов в городоведении, и книга, приоткрывавшая новые познавательные горизонты, была «возвращена» повседневной практикой в краеведение – к фактологическому, собирательскому, накопительному уровню, несомненно важному и необходимому, но столь же несомненно – другому.
Ссылка на Пиксанова уместна здесь не только потому, что его названная книга указывает дорогу в «страну поэта». Она уместна еще и потому, что наш поэт – писатель и драматург Михаил Булгаков – знал труды Пиксанова, по крайней мере – его книгу «Грибоедов и Мольер (Переоценка традиции)». Булгаков перелистал, прочел или проштудировал эту (вышедшую в 1922 году) книгу, готовясь к работе над биографией Мольера.
В книге «Грибоедов и Мольер» Пиксанов рассматривал вошедшее в литературоведческую традицию мнение Алексея Веселовского о зависимости комедии Грибоедова «Горе от ума» от мольеровского «Мизантропа», о зависимости, прежде всего, образа Чацкого от Альцеста.
Пиксанов подвергал сомнению эту зависимость и, вводя (едва ли не впервые) понятие «полигенетичность цитаты», подхваченное или изобретенное заново тартускими структуралистами, доказывал, что определенные мотивы в грибоедовской комедии возводятся к Мольеру в такой же мере, как и ко множеству других источников, так что говорить о зависимости русского комедиографа от французского нет оснований.