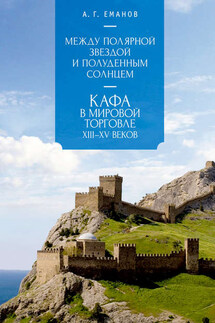Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв. - страница 17
Рис. 1. Галея.
Со второй половины XIV в. вывоз белки нарастал, подобно лавине. В 1354 г. корабль Лоренцо Челси доставил в Венецию 2826 шкурок рыжей и черной белки, 1800 шкурок “vai organini”, то есть сибирской белки, доставленной через караван-сараи Ургенча, и, кроме этого, еще 201 беличью спинку и 71 брюшко[305]. Тогда же в Геную были доставлены 4000 белок [306]. В 1379 г. две навы[307] везли на Запад различные меха Татарии и Московии[308]. В 1388 г. в Лигурийскую республику привезено до 80000 шкурок, в 1392 г. – 500 карабий (1,2 миллиона штук) и 1 колло (91 килограмм). В 1394 г. в республику Сан Марко вывезено 200 карабий (480000 штук), 8 колло (728 килограммов) и 1 кентенарий (31,8 килограмма) подобной пушнины. В 1395 г. транспортировалось 1 колло (91 килограмм) «белки Таны» и 42 колло (3,8 тонн) «белки Кафы» [309]. В не меньших объемах белка вывозилась в Египет[310].
Рис. 2. Галера. Зарисовка рельефа с надгробия дожа Венеции Франческо Фоскарини.
В эти годы экспорт пушнины, где индикация «белка Кафы» свидетельствует не только об ее продаже на кафском пушном рынке, но и о доработке местными скорняками, достиг своего апогея. В дальнейшем наблюдается сокращение вывоза мехов. В 1396 г. в Венецию было отправлено только 2 колло (182 килограмма) «белки Кафы»; в 1397 г. – 1 колло (91 килограмм). Тогда же в Геную вывезено 24 карабии (57600 штук) белки и других мехов. В 1401 г. в Венецию доставлен 1 колло (91 килограмм)[311]. В 1424 г. в том же направлении везли 35000 шкурок[312]. В целом, в конце XIV–XV вв. чаще встречались лишь поручения генуэзским купцам погрузить в Кафе меха без указания на их исполнение[313]. Подобный спад связан с общим кризисом XIV–XV вв., сказавшимся на торговом обмене[314].
Близкое с беличьими мехами место в международной торговле занимал мех куницы, считавшийся связками и, подобно белке, выступавший в роли денежного эквивалента, откуда появились названия средневековых монетно-весовых единиц на Руси – «веверица» и «куна»[315]. Куница также имела значение в геральдике, в частности, французской[316].
Различались лесная куница, темно-бурая с горлышком, окрашенным в красивый желтый цвет, и каменная куница, более светлая с белой грудкой[317]. Первая промышлялась в средней, лесной полосе Руси, лучшей же почиталась скандинавская за ее особо пышный мех. Вторая добывалась в районе Урала, в Крыму и на Кавказе, а лучшей признавалась туркестанская[318].
Уже упоминавшийся Николетто Гатта, прекрасно разбиравшийся в пушнине, покупал для своего компаньона в Венеции 132 шкурки лесных и 26 шкурок каменных куниц[319]. «Куница Кафы» упоминалась, наряду с белкой, в документах конца XIV в.[320] Не исключено, что такая тарификация связана с происхождением какой-то части каменных куниц из Крыма. Позднее, венецианский купец Джакомо Бадоэр, автор составленной в Константинополе «бухгалтерской книги» 1436–1440 гг., выказал заинтересованность в покупке мехов каменных и лесных куниц, совершив в связи с этим четыре торговые операции[321].
Гораздо реже встречался мех бобра и выдры, довольно высоко ценившийся в тогдашней торговле. Образы и того, и другого животных принадлежали к аристократической геральдике: французы определенно предпочитали выдру, а бургунды – бобра