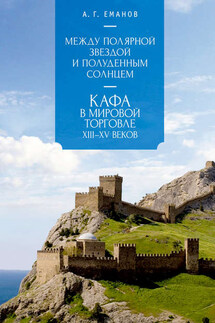Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–XV вв. - страница 2
Вся эта деятельность далеко не сразу освободила историческую мысль от миража Востока: он продолжал вдохновлять все новые и новые эксер-сисы медиевистов XX в., таких, как Адольф Шаубе (1851–1936)[41], Эмануэль Фридманн (1842–1912)[42], Херманн Хаймпель (1901–1988)[43], Рихард Хенниг (1874–1951)[44], Морис Ломбар (1904–1965)[45], Лучано Петек (1914–2010)[46], Вольфганг Штромер фон Райхенбах (1922–1999)[47] и других[48].
В российской историографии с начала XX в. стали появляться монументальные труды, основанные на широком круге источников, включая архивные. Таковы более широкие по заявленной тематике исследования Юлиана Кулаковского (1855–1919)[49] и Михаила Грушевского (1866–1934)[50], где, так, или иначе, нашли отражение вопросы истории торговли, в частности, о состоянии торговых путей из Кафы на Украину.
Тогда же Максим Ковалевский (1851–1916)[51], привлекая материалы Венецианского архива, рассматривал вопрос о функционировании торгового пути на Тану, в устье Дона. В отличие от своих современников, он писал о значимости черноморских портов не только для сообщений с Востоком, но и для вывоза местной сельскохозяйственной продукции.
Последующие генерации российских историков – крымские исследователи Николай Эрнст (1889–1956)[52], Александр Бертье-Делагард (1842–1920)[53] и Людвик Колли (1849–1918)[54], адыгейский антрополог Евгений Зевакин и его московский коллега Николай Пенчко[55], столичные медиевисты Марина Старокадомская[56] и Ирина Гольдшмидт[57], провинциальные медиевисты Алексей Чиперис[58] из Туркменского университета,
Сергей Секиринский (1914–1990)[59] из Симферопольского университета, Николай Соколов (1890–1979) [60] из Саратовского университета, Элеонора Данилова[61] из Симферополя и некоторые другие[62] – расширили проблематику истории торговли в Черноморском регионе, обратив внимание на положение местных торгово-предпринимательских слоев из числа греков, армян, или тюрок, показав роль русского купечества в отдельных отраслях торговли, например, поставках пушнины[63], отметив развитие городского ремесла в Кафе[64].
Владимир Сыроечковский[65], Елена Скржинская (1894–1981)[66] и Мария Фехнер (1909–1996)[67], продолжая историографические опыты Николая Эрнста, радикально повернули спектр научных интересов на «славянский мир»[68]; ими была предпринята попытка выяснения роли черноморских портов в дистрибуции европейских и левантийских товаров на Русь, что, однако, без привлечения массовых источников могло иметь только иллюстративный характер.