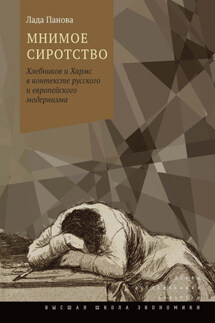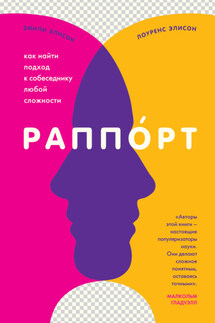Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма - страница 20
Как мы видели выше, кубофутуристы требовали признания в качестве «Нового Первого Неожиданного». Писателей же неавангардистов они систематически принижали, приклеивая им ярлык проьиляков. Особенно сильный ход сделал Маяковский. С присущими ему садизмом и демагогической выдачей желаемого за действительное в своем манифесте «Капля дегтя» (п. 1915) он, например, утверждал, что «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию» [РФ: 61]. Поскольку писатели-неаван-гардисты столь кричащих заявлений не делали (если вообще делали какие-либо заявления), то именно заявка кубофутуристов на первенство и была удовлетворена в ходе формирования ныне действующей иерархии литературных фигур.
Между тем лавры безусловных новаторов авангарду присудил не весь цех исследователей русского модернизма, а именно и только солидарное авангардоведение. Кроме того, работа по систематическому сличению текстов русского кубофутурзма с итальянским кубофутуризмом и произведений ОБЭРИУ с произведениями Хлебникова и других кубофутуристов не проводилась[36]. Попробуем подойти к проблеме незаконно занятых авангардом передовых позиций в каноне с еще одной стороны. Возможно, в эпоху модернизма действовали ничуть не меньшие новаторы, которые полностью отдавались писательству, вместо того чтобы размениваться на манифесты и жизнетворческие программы, а их вклад не учтен должным образом просто потому, что они не озаботились соответствующей саморекламой.
Только что были названы несколько причин, почему ныне канонизированная иерархия модернистов нуждается в основательном пересмотре. Есть и другие: сталинская характеристика Маяковского («лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи»); долго действовавшая установка на соцреализм как единственно правильный художественный метод, отбившая у читателей вкус, а у писателей и критиков – интеллектуальную инициативу; наконец, необходимость наверстывать упущенное в советское время, занимаясь не столько осмыслением, сколько обнаружением и публикацией ранее запрещенных авторов. Настоящая монография не претендует на формирование нового канона. В ее задачи входит лишь взвешенная дискуссия на эту тему. «Взвешенная» – значит с пониманием того, что речь не может идти об однозначной оценке сравнительного вклада авторов в копилку достижений модернизма, поскольку измерение новаций всецело зависит от эстетической и идеологической платформы исследователя.
Для меня путь к решению обсуждаемой проблемы, пусть и частичному, состоит в том, чтобы рассмотреть ряд авангардных текстов и практик прежде всего под интертекстуальным углом зрения, в авангардоведении едва представленным. Кроме того, этот и другие виды анализа должны производиться на общих основаниях, а не в порядке солидарного чтения. В моем случае это означает использование того же набора процедур, который я применяла ранее для символистов, Иннокентия Анненского, Кузмина, Пастернака, Ходасевича, Мандельштама, Владимира Набокова и др.
При оценке новаторства необходимо учесть еще одно обстоятельство, о котором речь здесь уже неоднократно заходила. Новизна произведения или художественной практики не равна a priori факту разрыва с традицией, литературностью и действующими канонами. Категориями полного отрыва могли оперировать только авангардисты. Причина тому – характерное для большинства из них отсутствие университетского образования (или же систематического самообразования) и, как следствие, минимальная литературная рефлексия