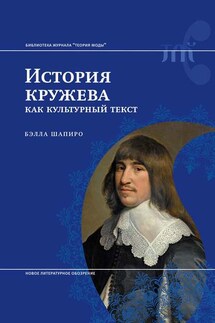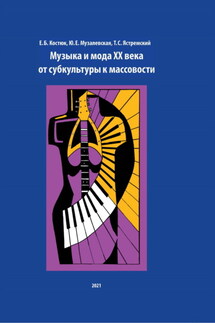Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках - страница 39
Ранее я назвала теорию «вертикального просачивания» модных тенденций своего рода социологической версией «великой цепи бытия». Если рассматривать тот же феномен на уровне индивидуальных практик и намерений, можно также увидеть в нем разновидность «мимикрии» – того, что в англоязычных контекстах обозначается термином passing (Вайнштейн 2018; Goffman 1963). Речь идет о планомерном или ситуативном присваивании внешних знаков социального класса, гендера, расы, этнической или религиозной группы, к которым субъект не принадлежит по праву рождения. В абсолютном большинстве случаев, приходящихся на период с XVIII до середины XX века, объектом подражания является более привилегированная позиция, однако в женской моде второй половины XIX столетия наблюдается будто бы противоположная тенденция: комментаторы в один голос утверждают, что, стремясь быть модными, женщины из хорошего общества приобретают облик куртизанок. В первую очередь подобное визуальное понижение собственного статуса связывалось с фигурой «современной девушки», о которой пойдет речь в главе 2, однако даже «скромная, обожаемая мужем жена, мать прелестных детей» могла, по мнению моралистов, быть «одета бесстыдно, как ярмарочная танцовщица» (Mrs. Punch 1868: 13).
В ряде европейских языков доступные женщины и их легкомысленные подражательницы именовались «бабочками», и далее я опишу визуальное преломление этой метафоры в британской карикатуре. В отечественном контексте уже в середине XIX века бытовало выражение «ночная бабочка» – показательно следующее описание проститутки из «Петербургских трущоб» Всеволода Крестовского (1864–1866): «рядом с нею, на другом конце скамейки, равнодушно позевывая и болтая ногами, сидела какая-то аляповато одетая девица из породы ночных бабочек» (Крестовский 1990). Эпитет «аляповатый» выступает устойчивой характеристикой персонажа, повторяясь в небольшом фрагменте три раза. В этом смысле наименование «ночная бабочка» с биологической точки зрения, конечно, не вполне верно, так как в природе ночные виды чешуекрылых, как правило, «одеты» довольно скромно. Дарвин, естественно, связывал эти различия с действием полового отбора (в то время еще не была известна способность ночных бабочек различать цвета в темноте): «Яркие краски не видны ночью; и не подлежит сомнению, что в целом сумеречные бабочки окрашены менее ярко, чем дневные» (Дарвин 1874: 301). Более подходящую аналогию для вызывающе декоративной внешности предоставляли бабочки семейства парусников, которых можно часто увидеть на модных карикатурах, или бабочки-ванессы, например репейница, именуемая по-английски «раскрашенная дама» (painted lady).
Помимо яркого, вульгарного наряда в описании проститутки у Крестовского обращает на себя внимание «нецивилизованная» телесность – полное пренебрежение правилами хорошего тона, запрещающими зевать и болтать ногами, по крайней мере в публичном пространстве. Моральная распущенность «переводится» на язык тела, контроль над которым ослаблен или полностью отсутствует (Булгакова 2005). Вместе с тем такое «освобожденное» тело в социокультурной системе, где ценностью является владение собой и отточенное изящество движений, воспринимается как не вполне человеческое, и в этом смысле тоже проститутка уподобляется насекомому или какому-то еще «низшему» существу. Сюжетная коллизия при этом такова, что встретившая эту женщину героиня романа, княжна Анна Чечевинская, вскоре ей уподобится – превращение, о котором только спекулируют критики моды 1860–1870‑х годов, в романе Крестовского совершается на самом деле. Эта метаморфоза является своего рода «адаптацией» к изменившимся внешним условиям, однако происходит она не спонтанно, а в результате осознанного решения, собственного выбора Чечевинской.