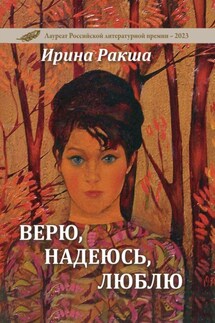Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках - страница 71
Джеймс Краснер указывает на роль индустриального производства в формировании подобной сериализованной образности (Krasner 2009: 158). Действительно, особенно в том, что касается моды, растущая механизация в изготовлении тканей, лент, кружева, фурнитуры, до некоторой степени – готовых изделий, и в значительно большей степени – массово тиражируемых образов, в частности модных гравюр, способствовала формированию представлений об одинаковости модниц и о возможности классификации женщин на основании их отношений с модой. Сама идея эволюции, для которой центрально понятие (де)специализации, представляется укорененной в логике индустриального капитализма66. Однако «селекционерские» метафоры имеют коннотации не только производства («изготовления» птиц или женщин желаемых параметров, причем этот процесс описывается скорее как художественная практика, чем как массовое тиражирование образца), но и потребления – по крайней мере, визуального, в которое читатели или зрители оказываются вовлечены наряду с авторами и персонажами – «селекционерами». И Линн Линтон в изобилии поставляет читателям все новые типы, которые можно сравнивать, оценивать, опознавать в реальной жизни.
Успех этого начинания очевиден в том, как охотно созданные ею образы подхватывают другие средства массовой информации, облекая их в визуальную форму. Так, «Антология современной девушки» представляет заглавную фигуру уже не как монолитный тип, а как собирательную категорию (Moruzi 2009: 14), бесконечно диверсифицирующуюся – в полном соответствии с дарвиновскими представлениями о видообразовании. Разновидности «современной девушки» в «Антологии» имеют национальную специфику: отдельные статьи посвящены французской, американской, ирландской, валлийской, немецкой современной девушке, – и привязку к роду занятий («работающие девушки» представлены типами балерины, горничной, швеи и буфетчицы). Но чаще всего героинь определяет их досуг и развлечения: флирт, туризм, охота, различные виды спорта (даже «легкомысленная курящая современная девушка» изображена с бильярдным кием). Как указывалось выше, «современные девушки» в «Антологии» представлены неоднозначным, скорее положительным образом, однако «типологический» подход к их описанию напрямую заимствован у Линн Линтон. Созданные ею типы дали пищу карикатуристам на многие десятилетия – так, направленный против женского движения стереотип «крикуньи» использовался художниками «Панча» еще в начале XX века.