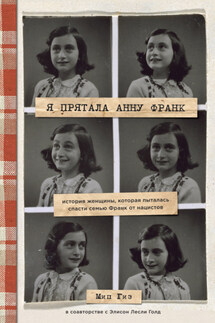Мода как культурный перевод. Знаки, образы, нарративы - страница 14
В знаменитой работе «Зачем читать классику?» (Why Read the Classics?) итальянский писатель Итало Кальвино отвечает на поставленный вопрос, давая четырнадцать взаимодополняющих определений «классики». Он стремится показать, что ответ на этот вопрос требует сложных размышлений и переосмысления самой идеи классического, построенной на почти стихийном убеждении или «ощущении», что нечто является «классикой», – в том виде, в каком это ощущение возникает в быту и повседневных разговорах. Некоторые из определений Кальвино позволяют предположить, что этим словом можно обозначать не только тексты, которые принято называть классикой, будь то художественные или научные, но и различные тропы – образы, представления, объекты, знаки, мотивы и даже людей. Классика – это то, что сохраняется в ткани культуры от эпохи к эпохе и от поколения к поколению. Она «таится в слоях памяти под видом индивидуального или коллективного бессознательного» и «достигает нас, окутанная аурой предшествующих интерпретаций, влача за собой шлейф следов, оставленных ею в культуре или культурах (или просто языках и обычаях), через которые она прошла» (Calvino 2005: 5).
Слово «интерпретация» в приведенной цитате охватывает видение, понимание, обмен опытом и вкусами. Если исходить из того, что классика представляет собой следы воспоминаний, можно рассматривать современные формы коммуникации как носители знаков, не только остающихся классикой в привычном значении этого слова, но и способных возвращаться, скажем, в виде визуальных цитат, искаженных памятью, прошедших переработку и многократное использование, побывавших на свалке, – и порождать новые сочетания. Еще раз перефразировав Кальвино (Ibid.: 13), можно охарактеризовать их как знаки, еще не договорившие то, что они хотели сказать, пусть даже они выражают это по-разному в разные эпохи.
Классика вневременна, неувядаема и непреклонна, причем последнее качество придает ей характер слегка навязчивой идеи, которую классика пробуждает или благодаря которой пробуждается она сама. Она не утратила значимости, потому что способна сопротивляться. Впрочем, это «сопротивление» подразумевает не столько активную самозащиту, сколько неиссякаемое изобилие. Классика непреклонна, потому что неумолимо возвращается, переходя от одного поколения к другому, определяя вкусы, обрисовывая страсти и ценности. Она снова «входит в моду» или остается «модной», потому что мода – не эфемерная паутина, наброшенная на вещный мир. Не вполне соотносится она и с «сетью образов, оправданий, смыслов» между вещами и покупателями, о которой говорит Барт (Барт 2003: 33). Мода устремляется глубже, хотя, чтобы уловить ее глубину, необязательно глубоко копать. Достаточно просто посмотреть на поверхность вещей под другим углом и взглядом достаточно отрешенным, чтобы сохранить способность удивляться. Говоря словами австрийского философа Людвига Витгенштейна,
для того чтобы опуститься в глубины, человеку не нужны далекие странствования; для этого даже не требуется покидать свое ближайшее и привычное окружение (Витгенштейн 1994: 457).
Риск такой переклички окружающих пространств заключается в том, что времена и воспоминания путаются, а история уплощается до вечного, а потому непродуктивного, потока событий. Тому, что остается или возвращается, часто приходится мириться с застывшей формой стереотипа. В таком случае классике приходится бороться с ностальгией и ощущением собственной миссии, присущим всем, кто, «возвращаясь», воспринимает себя чересчур всерьез. Наконец, есть опасность, что она превратится в орудие колонизации и эксплуатации коллективного воображения. Поэтому важно держать в уме еще два определения, которые Кальвино дает классике и ее способности критически влиять на настоящее: «Классика – это произведение, приглушающее грохот настоящего до отдаленного шума, без которого оно, однако, не может существовать». Кальвино добавляет: «Классика – произведение, сохраняющееся хотя бы в форме отдаленного шума, даже когда властвует совершенно несовместимое с ним настоящее» (Calvino 2000: 8).