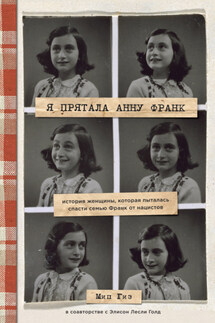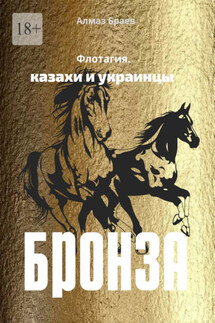Мода как культурный перевод. Знаки, образы, нарративы - страница 2
Опираясь на эссе Беньямина, я, однако, не согласна с трактовкой этой работы как утверждающей мысль о невозможности перевода именно потому, что, наоборот, философ высоко ставил перевод. Беньямин видел в нем непрерывное движение к сущностному свойству языка, которое при этом нельзя отнести просто на счет «коммуникации». Цель языка в первую очередь не в «коммуникации». Это «инструмент моделирования мира» (Petrilli & Ponzio 2011: 311) посредством знаков, вербальных и невербальных. Аналогичным образом, не (всегда) вербальный язык моды переводит, интерпретирует и удваивает тело или тела. У истоков самых массовых и «готовых» модальностей, приводящих нашу манеру одеваться в соответствие с растиражированным модным образом, стоит архетипический, карнавальный жест, позволяющий нам маскировать тело, «писать» и «переводить» его. Наше тело становится телом «для других», и сами мы воспринимаем его, как если бы были кем-то другим. Это радостный по своей природе и приятный жест, вбирающий в себя – помимо удовольствия от маскарада – чувственное наслаждение и кинестетическую игру тела среди других тел.
Таким образом, в наше время понимание моды как культурного перевода воплощает момент, когда сходятся разные языки: технологий и кино, литературы и музыки, городских дорог, униформ и профессий. Теория моды еще с 1990‑х годов подчеркивала свой интерес к диалектике глобального и локального измерений моды как культурной, производственной и символической системы. Мы видим, как растет число исследовательских концепций, навеянных критикой ориентализма. Вслед за Эдвардом Вади Саидом (Said 1978) его понимают как проекцию культурных стереотипов европоцентричной мысли на «незападные» общества. Примечательно, что осознание этой теоретической лакуны пришло в 1997 году, когда вышел первый номер журнала Fashion Theory. Это событие определило истоки самостоятельной международной области знаний, связанной как с историей костюма, так и с обширным полем культурных исследований, частью которых является теория моды (Calefato & Breward 2018; Kaiser 2012)2. В последнее время теория моды еще больше обогатила свое исследовательское поле, уделяя внимание непрерывному диалогу между глобальным и микролокальным измерениями, между культурным наследием и новаторством (Ling & Segre Reinach 2018). Адам Гечи, например, ввел понятие трансориентализма, чтобы «вырваться за пределы бинарной оппозиции Востока и Запада, а также уйти от позора и вины, тяготеющих над словом „Восток“» (Geczy 2019: 5).
Не так давно автор этой книги (Калефато 2020) воспользовался предложенным Вики Караминас понятием «пространства моды» (Geczy & Karaminas 2012: 1984), которое навеяно идеей глобальных культурных потоков. Такие потоки в форме различных «пространств» присутствуют и у Аппадураи (см. вторую главу). Термин «пространство моды» отражает взгляд на моду в процессе непрестанного перевода, который сегодня вышел за собственные рамки, образовав новые пространства, перспективы и территории, реальные и воображаемые, осязаемые и существующие в форме знаков. Внутри этих пространств, перспектив и территорий одетые тела воспроизводят себя в планетарном масштабе. Разговор о «планете» и «мире» в данном случае не лишен смысла. Как отмечает Спивак в работе «Смерть одной дисциплины», глобализация «предполагает повсеместное навязывание одинаковой системы обмена». Философ добавляет, что планета при этом «пишет поверх мира»: «Сущность планеты в различии видов, она принадлежит иной системе; тем не менее мы временно ее населяем» (Spivak 2003: 72).