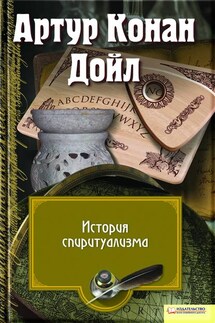Мое духовное странствие - страница 3
После того как мне исполнилось восемнадцать, то есть, уже в Голландии, мне часто снились кошмары, будто я снова оказалась в японском концлагере, на нас пикируют самолёты и сбрасывают бомбы. В действительности над нашим лагерем пролетало много самолётов, которые бомбили цели, находящиеся вдалеке от него. Однажды, когда мне было двадцать восемь лет, этот кошмар снова приснился мне, как будто в тот раз бомба действительно упала на наш дом, и мы все были стёрты в порошок. Но необычным в этом сне было то, что, явственно пережив момент смерти, я осознала, что была жива, моё сознание жило! Я оглядела дымящиеся руины вокруг меня и подумала: «Неужели это и есть смерть? Всего-то…» В своих ощущениях я была жива, хотя тело моё было уничтожено. Этот сон и это переживание оставались со мною все последующие годы, давая мне радость осознания того, что и после смерти я по-прежнему живу и осознаю себя без паники и страха. Это было очень поучительное событие, и оно дало мне, как я поняла позже, первое знание о потустороннем мире.
В лагере моя мать очень скоро нашла работу по распределению пищи. Каждый день в гигантских котлах готовилась еда для около 7000 (сколько людей было в точности, я не знаю, мать и сама точно не помнила этого) женщин и детей, которую нужно было организованно распределить. Женщины приходили за пайком каждая со своим рентангс (несколько металлических кастрюлек одна над другой в держателе, как это принято у индонезийцев). Но через некоторое время слово «еда» стало уже неприменимым к тому, что варилось в котлах: это была каша из тапиоки, которая обычно использовалась для приготовления клея. Я помню эти мелкие, скользкие, прозрачные шарики в каше, которые я никак не могла проглотить, несмотря на все уговоры матери. Моей сестрёнке это с лёгкостью удавалось, и я считала это большим достижением.
Все это время мать продолжала почти каждый день учить нас чтению, письму и арифметике, я помню это хорошо.
Когда война уже подходила к концу, я как-то надавила пальцем на кожу ноги и увидела, что вмятина не исчезла после того, как я убрала палец. Я весело закричала матери: «Посмотри, мама, как интересно, если я пальцем давлю на кожу, то вмятина остаётся!» Но маму это не развеселило, напротив, она знала, что это начало бери-бери, авитаминозного отёка. При нём жидкость скапливалась в ногах и поднималась постепенно всё выше по телу; когда жидкость достигала сердца, наступала смерть. Тогда и я узнала об этом. Отёк у меня достиг живота, но тут война подошла к концу, и еда стала лучше. Ещё я помню день, когда над лагерем пролетели самолёты, на днище фюзеляжа которых был нарисован голландский флаг. Женщины в лагере подоставали тщательно спрятанные в тёмных углах радиоприёмники, строго запрещённые японцами, и слушали последние известия, уже и не думая о том, что за владение приемником японцы тяжело наказывали.
Но хотя война и окончилась, оказалось, что для обитательниц лагеря она окончилась не совсем. Ворота, которые сначала были широко открыты, чтобы выпустить людей на свободу, снова закрылись. Это сделали сами обитательницы для своей безопасности, потому что женские лагеря регулярно подвергались атакам так называемых «хай-хо парней». Эти науськанные и натренированные японцами индонезийские парни лет восемнадцати, с перегретыми головами, хотели сражаться против Америки и Голландии, отстаивая свою независимость. Они нападали ордами на женские лагеря, стреляя и громко распевая «Смерть Америке!», и если им удавалось сломить сопротивление, убивали всех женщин и детей, как это случилось с лагерем недалеко от нас. Начальница нашего лагеря, госпожа ван дер Пул, добилась того, что ей выделили восемь японских военнопленных для защиты нашего лагеря. Нападавших были сотни. Нашим защитникам было обещано, что если они отобьют нападение «хай-хо парней», то получат амнистию по окончании войны и будут свободными людьми. «Хай-хо парни» осаждали наш лагерь в течение трёх дней, и горстка японцев сражались как львы; то, что японцы – хорошие вояки, было общеизвестно.