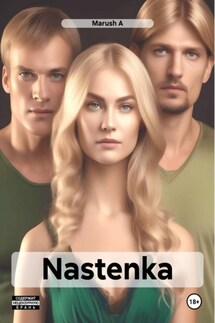Монастырские - страница 53
Папа ничего не знал про «революцию» и про клятву Богдана. И никто из нас не знал, что спустя годы история с Витей всем аукнется.
Через год, снова на 7 ноября, мы по традиции ждали гостей. Всё было, как обычно. Был Пётр Евгеньевич, который любит горячие блины, и Николай Петрович, который обожает холодное пиво. Михаил Викторович по традиции принёс для каждого в нашей семье, включая Ритольду и тётю Машу, по коробке конфет. Андрей Анатольевич привёл овчарку. Дамы сверкали бриллиантами.
Хохмили, кушали, пили. Всё как обычно. Стучали вилки, звенели рюмки. Но самое главное было вот что. В числе гостей за столом сидел и Виктор Константинович Шуев.
Богдан в тот день задержался. У него плотный график даже по праздникам. Творческие встречи, поэтические и художественные общества…
Я сидела, затаившись в своей комнате. Я не шла к гостям, и всё думала, что же будет, когда Богдан придёт домой? Я надеялась, что ничего не будет. Ведь Богдана я поставила в известность, кто такой Витя, и брат должен понимать, что с КГБ лучше не связываться.
– Здравствуйте, – сказал Богдан и остановился.
Ему никто не ответил. Слишком много было еды и анекдотов. Было не до Богдана.
На цыпочках, сняв туфли, я подбежала к двери. Уткнулась в щёлочку. Мне видны были строгие глаза моего брата, он смотрел на жующего Витю.
Богдан громко сказал:
– Вы, Виктор Константинович, мерзавец.
И тут все сразу забыли про яства. И глаза у всех открылись.
– И вы знаете об этом. А мерзавцам в нашем доме не место. Очень прошу вас уйти отсюда раз и навсегда!
– Что случилось?! – в голос воскликнули мама и папа.
Они поднялись. Они не знали, что делать. Всё было так непонятно. И пышное с воланами платье как-то вдруг поникло на маме. И стало видно, что оно испорчено пятном свежим от соуса жирного. И папа всё шевелил губами. Он не знал, что надо со ртом теперь делать, когда вдруг еда стала ненужной, когда вот такое случилось. И гнусная водка гнусно смеялась в рюмке хрустальной. И в комнату заглядывала испуганная Ритольда в нелепом поварском колпачке белом, в нём она была похожа на фельдшера. Его Ритольде подарил папа, специально для праздничных застолий.
Но Виктору Константиновичу Шуеву было всё понятно. Он налил себе водки, опрокинул рюмку, подцепил вилкой огурчик. И все слушали, как звенел между зубов Вити огурец с перчинкой. Оглядел Витя стол с поросёнком, курицей, холодцом, икоркой красной и чёрной. Дотронулся пальцем до запотевшей во льду бутылки шампанского. Оглядел людей внимательно. А потом поднялся неспешно. Сложил салфетку накрахмаленную. И ушёл бесшумно, аккуратными шагами.
Он был вежлив. Правда, невзначай пнул овчарку Гарри, но ведь она лежала у него на дороге, там, в прихожей, в ожидании хозяина, Андрея Анатольевича. Как не пнуть, если на дороге. Мне было это хорошо видно. Я сильно тянула шею, я высунулась из-за двери, но никто не смотрел на моё красивое иностранное платье, все смотрели вслед Виктору Константиновичу. Никому не было до меня дела, и мне тоже не было до себя дело. Я вся была там, в спине дурацкой, превратившейся в дверь молчаливую. И Богдан поспешно её захлопнул, закрыл на все замки.
Но спина, уши, нос, ноги человека из КГБ, всё осталось на самом деле. Увяз в этой двери Витя дурацкий, не успел выйти, как дверь злая уже закрылась. И пришлось Вите стать дверью, чтобы спустя годы из неё воскреснуть страшными и даже роковыми неприятностями. И о своей обиде нам напомнить. Но пока мы того не знали. На прощанье он всем пожелал спокойной ночи. И протянул руку моему папе, когда тот поспешил за ним в прихожую с извинениями неловкими. И говорил папа виноватым голосом. И не мог унять дрожь внезапную. И губы у отца прыгали. И был он бледным, как Ленин в Мавзолее.