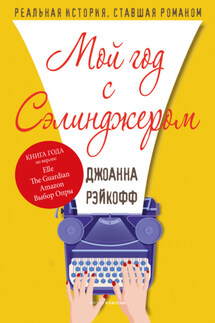Мой год с Сэлинджером - страница 7
– Ого! – ахнула я. Мне самой было двадцать три года.
Хью рассмеялся:
– Ого! Точнее и не скажешь. – Он пожал плечами. – Мне здесь нравится. Кое-что не нравится, конечно, но мне подходит это место. Работа, которой я здесь занимаюсь.
Я хотела спросить, чем именно Хью занимается, но решила, что это все-таки бестактно. Мама учила никогда не допытываться, сколько человек зарабатывает и какая у него должность. Поскольку разговор происходил в литературном агентстве, я сделала вывод, что Хью – литературный агент.
Снова оставшись одна – свет из кабинета Хью успокаивающе падал на ковер справа от моего стола, – я взяла микрокассету и, повозившись немного, вставила ее в диктофон, после чего снова принялась искать кнопку. Нет, только не это опять, подумала я; на диктофоне тоже не оказалось ничего – ни рычажка, ни каких-нибудь педалей, о которых говорила начальница, – лишь колесико без опознавательных знаков. Я подняла гладкую пластиковую коробку и осмотрела ее со всех сторон, но не увидела ровным счетом ничего.
Я тихо постучала в полуоткрытую дверь кабинета Хью.
– Входите, – сказал он, и я вошла.
Хью сидел за Г-образным столом, похожим на мой, но заваленным грудой бумаг, такой высокой, что за ней не было видно ни его груди, ни шеи. Здесь были распечатанные и нераспечатанные конверты, их надорванные края махрились и напоминали оторвавшиеся от платья оборки; письма, сложенные втрое и полуразвернутые; желтые листки, напечатанные под копирку, и черная копировальная бумага; большие розовые и желтые картотечные карточки; бумажки, бумажки, бумажки… Их было так много, что я встряхнула головой, не в силах поверить, что этот бумажный хаос существует на самом деле.
– Работы накопилось, – бросил Хью. – Рождество!
– Ясно, – кивнула я. – Я насчет диктофона…
– Там ножные педали, – со вздохом пояснил мужчина. – Под столом. Как у швейной машинки. Одна воспроизводит, вторая перематывает назад, третья вперед.
Все утро я слушала низкий аристократичный голос своей начальницы, вещавший из допотопных наушников диктофона, – весьма своеобразный и интимный опыт. Начальница надиктовывала письма, а я печатала их на бумаге с шапкой литературного агентства, желтоватой, тонкой, как рисовая, уменьшенного формата. Иногда письмо занимало несколько страниц, иногда печатать приходилось всего одну или две строчки. «Как мы договаривались, прилагаю два экземпляра вашего контракта с „Сент Мартинз Пресс“ на книгу „Кровные братья“. Просим подписать оба экземпляра и выслать нам в удобные вам сроки». Самые длинные письма предназначались издателям; в них моя начальница требовала внести сложные и порой необъяснимые изменения в контракт, вычеркивала слова и целые параграфы, особенно если те касались «электронных прав» – термин, ни о чем мне не говоривший. Работа была невыносимо скучной; форматирование и соблюдение межстрочных интервалов требовало гимнастической ловкости, но вместе с тем это занятие меня успокаивало, ведь я почти не понимала содержание напечатанного, а сам процесс – удары пальцев по клавишам, звук, с которым молоточки ударяли по бумаге, – завораживал меня. Дама из агентства по трудоустройству оказалась права: раз научившись печатать на машинке, разучиться было невозможно, как кататься на велосипеде; пальцы вспомнили расположение клавиш и порхали по ним, словно направляемые невидимой силой. К полудню у меня образовалась аккуратная стопочка готовых писем – результат расшифровки одной микрокассеты; я прикрепила к каждому подписанные конверты, как научил меня Хью.