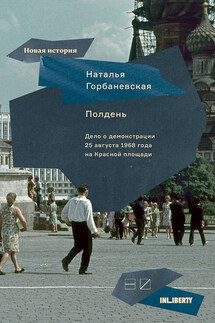Мой Милош - страница 43
Так как же поведет себя представитель завоеванной Европы, если ему выпадет это духовное поражение? Утратив веру в посланничество (с которой он прожил, правда не без лукавства, XIX век), видя горизонт, повсюду замкнутый ландшафтом руин, он может не найти в себе сил, чтобы выйти из этого заколдованного круга, и согласится устроить свое хозяйство по мерке пожарищ и развалин. Тогда, питая ненависть к врагу и отыскивая, что же противопоставить врагу, он пойдет по его следам и противопоставит ему обратный, но остающийся в тех же масштабах идеал: враждебному племени он противопоставит свое собственное племя и будет его обожествлять, признав его успешность и силу высочайшими критериями деятельности. Человек, человечество – эти понятия вызовут в нем только рефлекс неприязни и раз навсегда останутся связаны с неприятными воспоминаниями – как бессилие какой-нибудь Лиги Наций или фарисейство демократии. Такой подход, превращающий собственное отечество в алтарь, на котором сжигают отдельную личность, позволит ему высвободить весь запас благородства и героизма, тем более что пока продолжается гнет, этот алтарь – еще и алтарь страдающей человечности. Но победа неизбежно принесет раздвоение и поставит вопрос приоритета целей. Если бы такая атмосфера стала повсеместной, континенту вскоре грозила бы новая опасность, вытекающая из экзальтации своим родимым, к чему склонны много перестрадавшие народы.
Вышеприведенные рассуждения я извлек из опыта войны, но было бы ошибочно утверждать, что только он – мотор этих перемен, имеющих куда более сложные причины. Тем не менее опыт войны содержит в себе как бы в сжатом виде историю последних десятилетий, обогащенную накопившимся материалом, сильнее чего бы то ни было другого преображает человека – и затрагивает даже наименее чувствительных. Пойдем дальше. Исчерпывает ли утрата веры всю область феномена? Нет. Толстой велит своему герою утратить веру и затем снова ее отстроить. Пьер Безухов сходит в самую юдоль нищеты в лагере (депо) пленных – и именно там, среди полной примитивности, унижения и смерти, одного за другим уносящей его собратьев по плену, переживает великое преображение, выходит оттуда, смирившись с миром и внутренне свободный. Это происходит через прикосновение к судьбе человека во всей ее простоте, бренности и боли. Можно сказать, что его спасает соседство простого мужика Платона Каратаева: само его ровное дыхание по ночам, его радостное смирение, его полное согласие на всё, что принесет грядущий день, – для Пьера новый и нелегкий опыт; может быть, это попросту называется любовью к ближнему. Идя «босыми, стертыми, заструпелыми ногами» по замерзшим русским дорогам, Пьер открывает, что человек не только зол, но и воистину добр, что земля и жизнь хороши, а зло не должно заслонять нам великую и мудрую гармонию бытия. Даже слабость и ничтожество человека не нарушают этой гармонии, входят как необходимый пункт в какой-то окончательный расчет. Толстой не колеблясь описывает поведение Пьера во время расстрела Каратаева, который слишком слаб, чтобы поспевать за конвоем. «Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. <…> Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать».