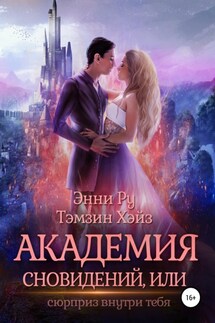Мой университет: Для всех – он наш, а для каждого – свой - страница 61
В тот год, выписавшись из госпиталя после ранения и тифа и демобилизовавшись «по чистой», Наум Васильевич возвратился в свое село. Возвратился он партийцем-краснознаменцем и сразу вошел в местную партийную ячейку. На одном из ближайших собраний односельчане избрали его секретарем сельского совета. Вот как, кстати, проходили тогда выборы: председатель совета – друг Наума Васильевича – объявил собранию, что секретарем предлагается выбрать вернувшегося с войны красноармейца, краснознаменца Наума Савинченко. Спросив после этого «Кто против?» – он тут же решительно заключил, окинув взглядом собрание: «Пиши – единогласно!» Так бывший политбоец легендарной 30-й Иркутской, Самарской, Чонгарской «железной» дивизии вошел в органы власти в своем селе. А в селе этом, как и по всей России, началось претворение в жизнь дошедших в сибирские края решений о введении новой экономической политики. Сельской власти надлежало исправить перегибы, допущенные по отношению к крестьянам-середнякам во времена «военного коммунизма». Такой перегиб имел место и в семье Савинченко: его отец запахал тогда у своего соседа одну или две десятины земли, пользуясь правом семьи красноармейца. И вот теперь его сыну, краснознаменцу и партийцу, предстояло вернуть эту десятину соседу-хозяину, признанному середняком. Реакция на это решение оказалась мгновенной – Наум Васильевич в знак протеста заявил о несогласии с новой экономической политикой и о своем выходе из ВКП(б). Не сумел тогда политбоец ни угадать на том перепутье, какой дороги держаться, ни понять суть политики, проводившейся, в первую очередь, в интересах основной массы крестьянства, а следовательно, и основной части трудового населения страны, более всего пострадавшей в годы Гражданской войны от всяческих трудовых и военных мобилизаций. А запаханную десятину ему пришлось вернуть соседу.
В те дни в его жизни имел место еще один неожиданный эпизод. Из краевого военного комиссариата пришла повестка, в которой Науму Васильевичу предписывалось прибыть для получения второго ордена Красного Знамени. А он отправил повестку обратно, написав, что «награду принять не может, так как после первого ордена не знает и не помнит других своих заслуг». Вот каким оказался красноармеец-коммунист, прошедший боевую и политическую закалку в 30-й «железной» дивизии РККА. Свое несогласие с непонятным нэпом он заявил честно и без всякого сожаления открыто отказался от награды как не заслуженной им.
Кстати, он и первый-то орден принял без особой охоты. Забавно было слышать от него и об этом случае. После штурма Перекопа его единственного в батальоне наградили орденом Боевого Красного Знамени. Других наградили золотыми именными часами. Наум Васильевич рассказал, что он долго упрашивал комиссара обменять орден на золотые часы с цепочкой. «В селе у нас, – объяснял свой поступок герой Перекопа, – золотые часы с цепочкой имел только сын лавочника. А если бы я вернулся домой с такими же, то все наши деревенские девки стали бы моими ухажерками. А орден? Что он значит? Значок как значок!» Мы слушали эту непридуманную сказку и вспоминали придуманного крестьянского сына Василия Теркина, которому непременно ко встрече со своими невестами «в стороне своей смоленской» достаточно было бы простой солдатской медали. Мы вспоминали при этом и себя. Ох как нельзя было вернуться с войны «на свою вечерку» без медали! А еще вспоминалась любимая сердцу песня про «письмо летучее» от далекой воображаемой невесты, «что ждет и в крайнем случае согласна на медаль». Ох, как понимали мы уважаемого лектора, знающего цену своему подвигу и чести, за бескорыстную солдатскую душу.