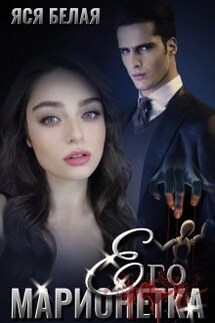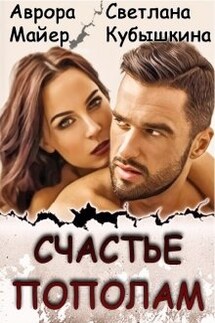Моя больная любовь - страница 4
– Д-да… – так и есть – будто весенний ручеёк.
Блядь.
– А я – Монстр, – усмехнулся той дичи, что творилась с ним, – слыхала? Может быть, папочка рассказывал обо мне?
Да откуда ж? Он, наверное, и забыл уже о двух женщинах, которые молили его о пощаде. Забыл, что сделал с ними. Никогда не думал, что придут и за ним. За его сокровищем. Дочуркой.
– П-папочка… – пробормотала девочка, как-то очень растерянно. Но так… будто сомневалась не в словах, а в самой возможности такого разговора, и завершила уже увереннее: – Не говорил…
– Уже неважно, – произнёс он и резко обернулся.
Боже, да она же совсем мелкая… И хлипкая. Соплёй перешибёшь. Как бы не подохла раньше – пока он её ебать будет. А он будет – жестко и не церемонясь. Но трахать дохляка не хотелось бы, он же не некрофил какой-нибудь.
Блядь.
Да ещё и глазищи эти на пол-лица. Омутные.
Хоть выкалывай.
Потому что когда смотрит вот так, когда хлопает своими ресницами коровьими, внутри всё в узел скручивает. Хочется эту мелочь в охапку сгрести, баюкать, врать ей, что всё будет хорошо.
Хочется, мать его, быть нежным.
Но нельзя.
Не с ней.
Но видеть, как её трясёт, почему-то неприятно. Руки, щаз, ледяные. Он уверен. Спрятать бы эти крошки-ладошки в свои, греть бы дыханием…
Блядь.
Он много пиздеца в своей жизни натворил. За последние десять лет столько грязи хлебнуть пришлось. Только вот баб никогда не насиловал. Зачем? Они сами на его крепкий хуй прыгали и просили выебать их пожёстче. Да и не признавал он этого, не по-мужски.
Может, кто-то заржал бы, узнав, что у Монстра есть свои понятия о чести, не ебать бабу без её согласия – было одним из них, но ему пох. Понятия у него были и точка.
Поэтому он и ухмыльнулся, но не чтобы её запугать, а чтобы скрыть тот пиздец, что внутри творился, когда она вот так вот обмирала и глазищами своими – блядскими, нереальными – хлопала.
Воздух хватала, будто рыбёшка без воды.
Сука.
Не смотреть, не думать, врубать сволочь.
– Хватит и того, что я знаю, кто ты… И что сделал твой отец, – рявкнул и грубо схватил её за подбородок, повертел голову из стороны в сторону, осмотрел.
Рвать и метать хотелось. Разодрать блядь-Сотникова в клочья. Это из-за него малышка здесь. Из-за него у Харитона сводило сейчас пальцы – так желал касаться нежно, невесомо. Ведь кожа у малышки – атласная, гладил бы и гладил.
Ну, почему, почему ты такая? Почему – ты?
А он же сегодня – падаль и мразь. Поэтому:
– Хорошенькая. Губки пухленькие. Кожа нежная. Чистый ангелок. Но это… ненадолго. Сегодня тебе предстоит спуститься в ад…
Что за бред он несёт? Сам всегда гнобил тех долбоёбов, что за счёт слабых баб самоутверждались – запугивали, унижали, растаптывали. Руки таким не подавал. А теперь вот сам дрожащую малышку давил.
А она лепетала тихо-тихо, едва различал:
– Нет-нет… Нельзя…
Прекрати! Сейчас же прекрати!
Блядь! Не могу! Когда в её голосе такие мольба и отчаяние…
Так…
Где у нас там Монстр? Включить на полную: ухмыляться погано, смотреть сально, давать дальше:
– Детка, усвой сразу – тут я решаю, что нельзя, а что можно. Тебе. Мне можно всё.
– Что я вам сделала? – девочка еле хрипела, дрожала, но у самой хватило силёнок вскинуть голову, встретить взгляд в упор, выдержать его. А у него – едва хватило сил не утонуть в её глазах – серых, влажно блестящих, обречённых… Точно маленький взъерошенный котёнок, который щерится, глупыш, на бойцовского пса…