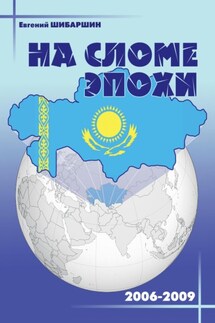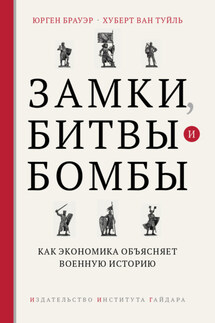На сломе эпохи (2014 – 2017 годы) - страница 28
Эти же аргументы приводят и казахстанские эксперты, выступающие против передачи частным структурам управления исправительными учреждениями. Добавляя к этому довод, что в наших условиях все эти пороки будут умножены.
С этими аргументами можно было бы согласиться. Если общество наделило государство обязанностью наказывать граждан за совершенные преступления, то почему исполнение наказания нужно передавать в частные руки? Да еще чтобы кто-то из этого извлекал финансовую выгоду?
Теоретически это так. Но что происходит на практике? 13 лет назад я в составе казахстанской делегации был в США. Нам показали тюрьму в городе Талса (штат Оклахома), где отбывали наказание осужденные на срок до 3 лет. Она была в частном управлении. То, что мы там увидели, ни в какое сравнение не шло с аналогичными казахстанскими учреждениями. По журналистским обязанностям мне приходилось бывать в наших СИЗО и УК. В сравнении с ними американская тюрьма – санаторий. Речь, конечно, идет только о материальных условиях пребывания. О другом судить не берусь. Как и о других американских тюрьмах. Даже делая скидку на возможность показа нам «потемкинской деревни», мы не могли не удивиться тому, что увидели.
Первый вопрос к администрации тюрьмы: в чем интерес «частника»? Думали, нам расскажут про какие-нибудь мастерские, где подневольные «зэки» вкалывают на благо американских капиталистов. Нам ответили: единственный источник получения прибыли – умелое управление доходами от бюджетных денег, выделенных на содержание осужденных. Что касается работы, то осужденные занимаются только уборкой территории. Остальное – запрещено.
Какая практика будет в Казахстане – сказать сложно. Нужно попробовать. В наших условиях главная проблема – как сделать принудительный труд, запрещенный Конституцией РК, добровольным. Тут-то государство и должно сказать свое веское слово.
«Наша газета», 27.03.2014
20 лет власть без оппозиции
В марте исполнилось 20 лет с того дня, когда в Казахстане начали действовать новые органы местной представительной власти – маслихаты. За прошедшие годы их функции постоянно расширялись, в работу по управлению делами государства вовлекались тысячи граждан из различных сфер нашего общества. Одно оставалось неизменным – в маслихатах постоянно доминируют депутаты от партии власти. А если говорить об оппозиции, то в Костанайской области, например, от нее в этих структурах не было ни одного представителя.
Маслихатам прав не хватает?
Сегодня в Костанайской области среди депутатов маслихатов уже нет и беспартийных. Из 301 народного избранника лишь один человек от партии «Ауыл», остальные – нуротановцы. Такого не было даже в советское время, которое постоянно критикуют за тоталитарную политическую систему. КПСС регулировала, но cчитала необходимым иметь в Советах достаточно внушительный процент беспартийных.
Конечно, это не означает, что сейчас кто-то должен управлять выборным процессом. Это лишь констатация факта, подтверждающая необходимость анализа. Ведь сколько бы мы ни говорили о наличии в Казахстане многопартийности, но, когда в органах власти долгие годы не появляются представители других партий (не обязательно оппозиционных), невольно задумаешься: в ту ли сторону мы пошли после отказа от тоталитаризма?
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, есть смысл оценить несколько причинных версий. Первая из них связана с объемом правовых возможностей, с помощью которых маслихаты могут влиять на органы исполнительной власти. Может, их не так много, чтобы оппозиционные партии могли реализовывать своих программные цели на местном уровне?