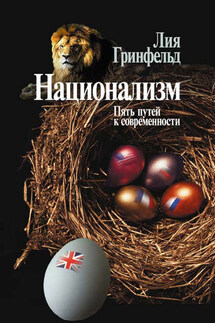Национализм. Пять путей к современности - страница 25
Важно отметить, что слово state в этом контексте появляется в словосочетании common state, которое Т. Купер предлагает в качестве перевода к «respublica» – во всех ранних словарях не имеет никаких политических дополнительных смыслов, которые оно приобретет позже [15]. Слово это обозначает либо «статус» – Купер объясняет его как «условие или состояние чьей-либо жизни или какой-либо другой вещи» – либо оно обозначает estate (то есть собственность). Этот термин не изменил своего значения до конца столетия, когда он стал другим близким синонимом «нации», но он не вызывал столь сильных чувств и не использовался так же часто, как остальные термины.
Язык парламентских документов
Новые понятия проникали в язык постепенно и неосознанно, в их введении в язык не было ничего революционного, и в конце концов стало казаться, что они в нем существовали всегда, что реальность, которую они отражали, всегда была частью английского государственного устройства, что английская конституция, другими словами, всегда была национальной. Парламент скорее следовал, чем способствовал движению национального чувства, которое существовало вне парламента, и медленно и осторожно усваивал развивающийся язык национальной идентичности. Но, поступая таким образом, он давал этому языку официальное признание и ореол законности. Это были еще всего лишь своего рода изменения в лексике, но лексика-то была парламентская, в результате, когда она была полностью трансформирована, это означало, что изменилась сама реальность.
В законах Генриха VII Англия называлась королевством и менее часто землей (the land) в манере, лишенной тех эмоциональных обертонов, которые этот термин (земля) приобретет позднее. В The Statute of Treason (Закон об измене, 1495 г.) подданным этого (King’s) государства напоминается о том, что они должны, когда это потребуется, участвовать в защите (своего короля) и «земли», каковой король является верховным властелином (Sovereign Lord). Правление короля тем не менее подлежит проверке – как в Законе о престолонаследии – на основании того, служит ли оно «благу Всемогущего Господа нашего, богатству, процветанию и спокойствию королевства аглицкого и довольству подданных сего королевства» [16]. Здесь используются понятия «общее благо» и «общее благосостояние», но также не употребляется термин common wealth. Наличествуют также постоянные отсылки и апелляции к «законам земель». Однако концепция государства (polity), которая проходит через документы этого царствования, остается концепцией королевского государства или королевства, то есть «королевской собственности». Остальное население имеет к этой собственности отношение только в качестве жителей данной земли и королевских подданных, и доля населения в ней имеет характер утилитарный, если не случайный.
Документы следующего царствования тоже называют Англию «сим королевством», «сим благородным королевством» (см. Tunnage and Poundage Act, 1510 г., The Act of Appeals, 1533 г., The Dispensation Act, 1534 г., и другие). Но восприятие отношения подданных к земле меняется. Закон 1534 г. «Об отчуждении первого урожая и десятины в пользу короны» начинается со следующего утверждения: «Долгом и священным долгом, естественным побуждением всех добрых людей, как вернейших, преданных и послушных подданных, является искренне и со всем желанием обеспечивать не только общественное благо своей родной страны, но также и поддержку, и защиту королевской собственности их величайшего, милостивейшего и достославнейшего Государя, от которого и исходят вся этих подданных радость и благосостояние». Долг подданных по отношению к суверену покоится на утилитарной основе, ибо, предположительно, его благо означает их благо. Но в то время как этот долг требует подтверждения, предполагается, что «желание обеспечивать общественное благо своей страны» является естественным побуждением, к которому на самом деле приравнивается и долг по отношению к королевской собственности, и это желание подтверждения не требует. Здесь уже отношение населения к земле и к государству (polity) рассматривается как внутренняя привязанность, и интерес к сохранению земли и государства проистекает из «естественной» к ним любви этого населения. Нельзя еще сказать, что понятие polity (государства как организованной общности) в качестве, главным образом, королевской собственности, где остальные имеют лишь крайне ограниченную часть, исчезло совершенно. По-видимому, две точки зрения сосуществовали. Третий закон о престолонаследии, относившийся к воинственным намерениям Генриха VII касательно Франции, представляет конфликт в чисто династическом и даже личном свете как дело, не имеющее к населению прямого отношения. «Наш достославнейший повелитель и король …Божьей милостью намеревается предпринять поход… в королевство Францию супротив