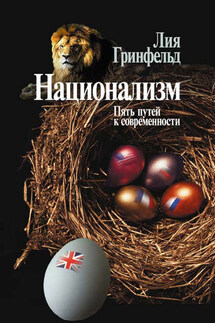Национализм. Пять путей к современности - страница 36
Идея «нация» была привлекательна для постоянно растущего среднего класса не менее, чем для новой аристократии. Она de facto подтверждала равенство между ними во многих областях, так же как и притязания представителей среднего класса на расширение их участия в политическом процессе и на большую власть. Эта идея давала людям возможность гордиться своим положением в жизни, каким бы это положение ни было, потому что прежде всего и превыше всего они были англичанами, и они были уверены в том, что могут достичь большего, ибо то, что они были англичанами, давало им право быть тем, кем они пожелают. Многие, пожалуй, большинство писателей, развивавших и пропагандировавших националистические идеи, начиная с сороковых годов XVI в., вышли из этого среднего класса. Его представители также заседали в палате общин. И в то время как увеличивающееся значение парламента служило еще одним доказательством тому, что они действительно были представителями нации, их национальное самосознание заставляло их требовать для парламента все большей власти. Таким образом, власть парламента и национальное самосознание питали друг друга, и этот процесс усиливал их обоих.
Национализм в Англии рационализировал и легализовал то, что Токвиль, впоследствии и в другом контексте, называл демократией – то есть тенденцию к уравнению условий существования разных социальных слоев. И хотя слово это, применительно к политическому режиму правления большинства, звучит одиозно для защитников и адептов статуса английской нации (nationhood), которым эта идея вовсе не была симпатична, политическая демократия была именно тем, что подразумевала идея «нация». Именно к политической демократии эта идея самой судьбой была предназначена в конце концов привести. Однако в XVI в. английский национализм в основном сосредоточился на особе монарха – важного символа английской особенности и верховной власти (sovereignty). Корона, со своей стороны, благоволила к национализму, время от времени поддерживая его официальными мерами, которые сильно способствовали его респектабельности, и в целом оказывала ему определенную поддержку, в которой он нуждался для своего развития.
Английские правители из династии Тюдоров снова и снова оказывались в зависимости от доброй воли своих подданных. Генрих VII завоевал трон на поле битвы, и его власть почти полностью покоилась на желании людей, иметь его своим правителем. Он также зависел и от их кошельков, каковые были под контролем у парламента. Поэтому, имей Генрих какие угодно намерения, роль деспота он играть не мог и вынужден был править «конституционно», то есть в соответствии с «законом земли». Вероятно, он делал это неохотно, говорили, что он обычно пользовался советами юристов «окольно и явно ни для чего другого как для того, чтобы посмотреть, насколько безопасны его проекты, и с наименьшей опасностью от них (этих проектов) отклоняться». Несмотря на это, важно, что он вообще просил совета и старался представить «отклонения» таким образом, чтобы «его действия внутри страны соответствовали если не духу, то хотя бы букве общего права». Он также заботился о том, как мы видим из официальных документов той поры, чтобы утвердить свою власть, повышая общее благосостояние своего народа.
Хотя положение Генриха VIII было прочнее, чем у его предшественников, ему все равно постоянно приходилось петь почтительные стансы народу, его представителям и общему праву. Возможно, что у него, как и у его отца, было желание править самовластно, но это желание и в его случае никогда не стало реальностью. Причина этого, по крайней мере частично, была случайной – «слишком много надо было сделать за слишком короткое время» [49]. «Дела», кроме всего прочего, обозначали разрыв с Римом. Отделение от Рима, хотя, казалось, оно было предопределено событиями, имевшими личный и необязательный характер, отражало изменившееся настроение и изменившуюся реальность английского общества. В целом можно высказать корректное утверждение, что «когда Генрих VIII национализировал веру, он выполнял не высказываемое пожелание… своего народа, жаждущего сохранить сущность своего вероучения, и не менее озабоченного тем, чтобы избавиться от малейших следов ненавистного иностранного присутствия» [50]. Потому ли, что Генрих не смог этого осознать, или потому, что он рассчитывал что-нибудь от этого получить в дальнейшем – представляя свое «великое дело», явным образом, как борьбу за «общее благо (государство, commonwealth)», – но он вовлек в эту борьбу парламент и обеспечил активное парламентское участие в разработке и осуществлении этого отделения. Он рассыпал хвалы своей «мудрой, рассудительной и политичной палате общин»» [51], и не был против растущего национального самосознания внутри нее.