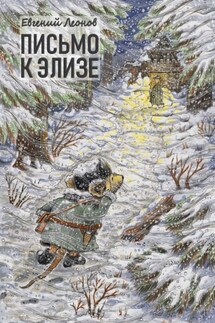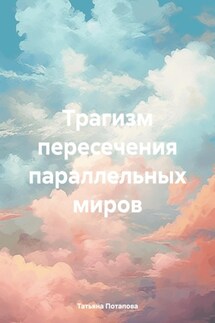Насилие. Микросоциологическая теория - страница 16
Кроме того, военная модель подходит для объяснения насилия, совершаемого полицейскими во время задержаний и при обращении с заключенными. Конфронтации с участием полиции и военных приводят к чрезмерной жестокости одним и тем же путем – через последовательность эмоциональных событий, которую мы именуем наступательной паникой (forward panic) – она будет рассмотрена в главе 3. Насилие, совершаемое толпой, или массовые беспорядки в некоторых своих основных механизмах также напоминают насилие во время войны. На протяжении значительной части времени конфронтация в основном сводится к бахвальству и жестикуляции, не приводя к реальному ущербу. Роковой момент наступает, когда солидарность одной из сторон внезапно дает трещины, распространяющиеся на открытом пространстве, где присутствуют небольшие группы, в результате чего численное превосходство одной из сторон позволяет изолировать и избить одного-двух человек со стороны противника, отделившихся от своих товарищей. При рассмотрении в фактических деталях все перечисленные формы насилия выглядят крайне уродливо – несоответствие между их идеализированным представлением о себе и реалиями чрезмерной жесткости, по сути дела, представляет собой еще одну их общую ситуационную особенность.
Все эти различные формы насилия представляют собой подтипы одной из основных траекторий обхода конфронтационной напряженности и страха – поиска слабой жертвы для нападения. Более сложным для непосредственного изучения сторонними наблюдателями является домашнее насилие. Соответствующие записи практически отсутствуют, так что в данном случае приходится опираться на реконструкции событий при помощи интервью, ограниченных тем обстоятельством, что в основном они сводятся к сообщениям лишь одного их участника. Тем не менее, обработав большой массив свидетельств, я пришел к выводу, что основные формы домашнего насилия напоминают те типы ситуаций с участием военных и полицейских, которые можно подвести под общую рубрику «нападение на слабого». Самая неприглядная версия этого сценария имеет место, когда конфронтационная напряженность нарастает, а затем внезапно спадает, в результате чего противник, который поначалу казался угрожающим или приводящим в смятение, оказывается беспомощным, и это приводит к тому, что страх и напряженность другого участника конфронтации резко трансформируются в яростную атаку. Кроме того, имеются более институционализированные формы нападения на слабых – речь идет о воспроизводящихся паттернах, где одна или обе стороны привычно разыгрывают роли сильного и слабого в ситуационном драматическом действе. К таким формам относятся травля, а также разнообразные действия специалистов по насильственным преступлениям, мастеров уличных ограблений и разбойных нападений, которые довели до совершенства свои навыки поиска подходящих жертв в подходящих ситуациях: успех их действий зависит от умения извлечь выгоду из конфронтационной напряженности как таковой. Таким образом, сравнение непохожих друг на друга форм насилия позволяет выявить схожие механизмы эмоционального взаимодействия.
Еще одна большая группа ситуаций предполагает совершенно иную траекторию обхода ситуационной напряженности и страха: вместо поиска слабой жертвы эмоциональное внимание концентрируется на зрителях, перед которыми разворачивается насильственное столкновение. Данные столкновения резко отличаются от нападения на ситуационно слабую жертву, поскольку их участники гораздо больше обращают внимание на свою аудиторию, чем друг на друга (в главе 6 будут приведены свидетельства того, что позиция публики оказывает здесь решающее влияние на то, будет ли вообще происходить насилие и в каком объеме). Как правило, для таких столкновений характерны стилизованный и ограниченный характер, хотя происходящее в этих границах может быть достаточно кровавым или даже смертельным. В одном из основных подобных сценариев насилие принимает такую форму социальной организации, как честный бой, участвовать в котором может ограниченный круг противников, подобранных надлежащим образом. Социальные структуры, которые создают подходящие условия для таких поединков и осуществляют контроль над ними, и здесь становятся лучше всего заметны при сравнении разноплановых ситуаций. К ним относятся драки один на один, которые можно наблюдать на улицах или в местах развлечений; драки как форма разгульного веселья; потасовки и насилие понарошку как обычная форма поведения детей; дуэли; боевые искусства и другие практики школ единоборств; спортивное насилие, совершаемое как участниками соревнований, так и болельщиками. В отличие от упомянутых выше подлинно омерзительных разновидностей насилия, которые зависят от возможности обнаружить ситуационно слабую жертву, данный набор ситуаций можно рассматривать как насилие ради забавы и защиты чести. Тем не менее, вглядываясь в микрореалии подобных поединков, выясняется, что и они точно так же формируются конфронтационной напряженностью и страхом, причем их участники все так же по большей части используют насилие неумело, а то, что им удается сделать, зависит от того, насколько они настроены на аудиторию, которая обеспечивает им эмоциональное доминирование над противником.