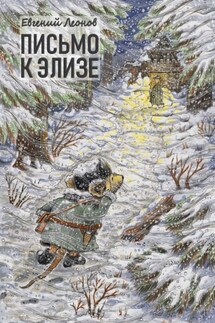Насилие. Микросоциологическая теория - страница 7
У книги Коллинза о «Насилии», безусловно, есть и важный внешний контекст: она появилась в оригинале в тот момент, когда насилия в мире стало определенно больше. Несомненно, здесь автор этой рецензии становится на довольно шаткую тропу, поскольку рассуждать о том, больше или меньше насилия в мире в конкретный момент времени в сравнении с каким-то другим, сопоставимо с участием в дискуссии о том, существует ли прогресс в искусстве. Но для западного мира 2000‑е годы определенно ознаменовали усиление роли насилия в актуальной повестке – начиная с терактов 11 сентября и далее в связи с военными кампаниями в Афганистане и Ираке (этим событиям в книге Коллинза, конечно же, нашлось место).
В нынешнем же десятилетии, когда насилия в мире точно стало еще больше, блестящая во многом книга «топ-звезды» американской социологии производит довольно странное впечатление. Это, конечно, далеко не высказывание в духе «все к лучшему в этом лучшем из миров», но во многом работа Коллинза созвучна литературе, которая появилась примерно в то же время и вполне убедительно заявляла о прекращении «больших войн». Военные ужасы наподобие той же Нанкинской резни или массового убийства вьетнамцев американскими солдатами в деревне Сонгми выглядят событиями не такого уж далекого, но как будто качественно иного прошлого, а в настоящем насилие встречается не так уж часто, не устает напоминать Коллинз, причем делает это «с цифрами в руках». Возможно, если исходить из американской криминальной статистики, то вероятность того, что конкретный человек в конкретный момент времени конкретного дня конкретного года подвергнется убийству или нападению, действительно очень мала. Однако такой подход в самом деле выглядит американо- или, шире, западоцентризмом – особенно если вспомнить о ряде событий, происходивших примерно в то же время на глобальной периферии. Например, Вторая Конголезская война, в которую на рубеже столетий была втянута почти половина африканских стран, унесла жизни около четырех миллионов человек – во многом потому, что участвовали в ней преимущественно не организованные армии, а парамилитарные группировки, устанавливавшие в подконтрольных им территориях режим рутинного эндемичного насилия. При этом не более 10% всех погибших стали непосредственными жертвами насилия, а остальные потери пришлись на смерти гражданских лиц по разным причинам: голод, эпидемии, детская смертность…14
Разумеется, тема насилия настолько многогранна, что даже в толстой книге невозможно объять даже вкратце все его проявления – скажем, серийных убийц Коллинз вообще упоминает короткой строкой, указывая лишь, что это самый редкий тип насилия (что, впрочем, не помешало ему стать предметом многотомной литературы – от академической психиатрии до поп-продукции