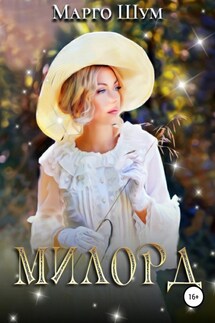Наследство последнего императора. Том 4 - страница 22
– Ой, тять приехал, – вскрикнула Гашка.
Поперхнувшись, Никишка сильно сжал меха взревевшей гармони и вскочил. Все встали и поклонились отцу в пояс.
– Доброго вечера, батюшка!
Новосильцева тоже поклонилась.
Остановив тяжело дышащую лошадь, Абрам Иосифович медленно слез с телеги, бросил в неё вожжи и оглядел всех.
– И вам то ж, – хмуро сказал он. – Праздник-от какой? А я и не знал. Чего распелись?
– Дак Никишка гармонь стачал! – как всегда, смело ответила Гашка. – Вот пробовали. Все пробовали.
– Все? Пробовать – не на всю округу. Пошто гулянку затеяли? Твои вопли, Гашка, за три версты слыхать.
– А если весело? – задрала нос Гашка.
– Так с чего бы?
– Вот, нашинковали целу гору. Дуня тоже научилась. Гуляли, потому как работа сработалась.
– Гору, знат? – усомнился отец. – То гора называется? И Дуня? Тебе в пляс пуститься осталось.
– А чего-сь? – с вызовом прищурилась Гашка. – После хорошей работы и поплясать.
– После хорошей на пляски не тянет, – усмехнулся Потапов. И – Новосильцевой, словно ища сочувствия. – Вся в бабку свою. Такая же была. Татарка, одно слово.
– Ваша мать татаркой была? – удивилась Новосильцева.
– Тёща. Как окрестилась, строже всех стала в вере. В пост яишню не даст. А как разговеется – не удержать было, – усмехнулся в бороду. – И петь, и плясать, и всякие шутки шутить. И татарские песни петь, и наши. Ты думаш, откуда мои шалопуты глаза синие взяли? От неё, от татарки. Ну да мы не по крови – по вере на людей смотрим. Так… Никишка! – приказал он. – Распряги и, как выводишь Красотку, чтоб поостыла, напоишь, почистишь, овса задашь.
– Знаю. А зачем Красотку гнал, тятя? – поинтересовался Никифор и взял лошадь под уздцы.
Красотка роняла с губ пену, на боках и подмышками у неё темнели остро пахнущие пятна пота. Пожилая лошадь тревожно встряхивала гривой, звенела удилами и не могла отдышаться.
– Всё-от тебе знать надо, – проворчал Абрам Иосифович. – Сказано в Писании: не любопытствуй всуе.
Он взял с телеги большой свёрток, бумажный, обмотанный бечёвкой, и газету, сложенную вчетверо.
Никифор повёл лошадь за дом, на конюшню.
Отец, мельком глянув на бочки с капустой, сказал вполголоса:
– Евдоксья! – и кивнул на дом.
В прихожей Абрам Иосифович стащил с себя сапоги, влез в мохнатые пантуфли из медвежьего меха, стёртые по краям. Новосильцева сбросила лапти, осталась босиком.
Потапов положил свёрток на стол, развязал бечёвку, сунул её в ящик комода и после этого развернул бумагу.
– Оно? – спросил. – Или не оно?
В свёртке оказалось тёмно-серое платье с пелериной, белый передник с красным крестом на груди и белый плат, похожий на старообрядческий, с красным крестом во лбу.
– Будто и не ношено, – оценила Новосильцева.
– Стал бы я у чужих ношено для тебя брать, – хмыкнул Потапов. – Не надёвано ни разу. Такое ли надоть?
– Такое, спаси Бог. Только…
– Что только?
– Платье и передник – те, что надо, Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. А плат – Кауфманской общины, графини Бобриковой.
– И что тогда? – озабоченно спросил Абрам Иосифович.
– А ничего, собственно. И те, и другие были мобилизованы, многие погибли на фронте. И общин тех, думаю, уже нет. Важнее документ.
– Есть документ, – довольно сообщил Абрам Иосифович. – Он?
И положил на стол серую картонную книжечку – удостоверение на имя Марии Свиридовой, уроженки Череповца, сестры милосердия Крестовоздвиженской общины. Всё, как полагается – печать, неразборчивая подпись. Фотография мутная – переснята с сохранившегося у Новосильцевой паспорта на имя Свиридовой, но для такого удостоверения сойдёт.