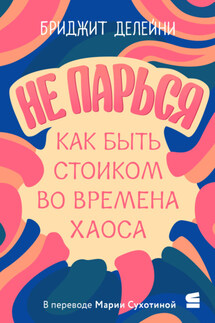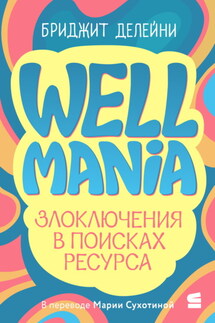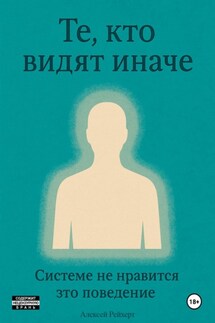Не парься: как быть стоиком во времена хаоса - страница 9
Когда жизнь подходит к концу, мы отчаянно боремся за лишнее время: медицина, технологии, деньги – все идет в ход, лишь бы выгадать еще немножко! Но пока все хорошо и впереди вроде бы много лет, мы почему-то их не ценим.
Я часто вспоминаю прекрасный роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Если судить поверхностно, его главные темы – клонирование и донорство. Но мне видится здесь притча об отрицании смертности, характерном для современного человека («У нас была прекрасная, цветущая экономика и не было смерти»). В чем трагедия героев Исигуро? Они появились на свет лишь для того, чтобы умереть. И когда им – а заодно и нам, читателям – становится ясно, что в детстве от них скрывали эту правду, мы испытываем глубокую печаль. Все они обречены. Ну почему нельзя просто дать им жить? И вот тут – ой, погодите минуточку – открывается вторая истина, еще более горькая. Так ведь это и наша судьба, судьба читателей! Мы тоже рождаемся, чтобы умереть, причем не тогда, когда захотим сами. Почему же нельзя дать нам жить и жить без конца?
В рецензии на роман Исигуро обозреватель газеты The Telegraph Тео Тайт написал: «Читатель понемногу осознает, что перед ним – притча о конечности жизни. Голоса обманувшихся учеников Хейлшема, которые рассказывают друг другу жалкие выдумки, лишь бы не признавать мучительную правду о будущем, – это наши голоса. Нам говорили, что все мы умрем; только мы не желали слышать и понимать».
Мы не желали понимать, а вот стоики все жизнь старались усвоить, что в конце концов умрут.
Кроме собственной смерти есть и горе утраты. Современный человек обычно горюет в одиночку. Поддерживают его разве что антидепрессанты и мемориальные странички в соцсетях. Как же нам быть, как справиться с болью – этой стеной огня, этой ледяной равниной, – через которую рано или поздно придется пройти любому? Стоики много размышляли о смерти и горечи утраты, этой теме посвящены их самые важные труды. В трактате «О скоротечности жизни» Сенека писал: «Жить же нужно учиться всю жизнь, и, что покажется тебе, наверное, вовсе странным, всю жизнь нужно учиться умирать».
Что же мы можем сделать? Приготовиться к смерти. Посмотреть правде в глаза. Подготовка к смерти – мрачное, но порой умиротворяющее дело, которым можно заняться в любой момент, вот только мы не торопимся за него взяться. Мы не хотим готовиться. Где-то в глубинах сознания сидит древний предрассудок: готовиться к смерти – значит наклика́ть беду. Кто готовится – зовет смерть, как будто ищет с нею встречи. В плену магического мышления мы убеждаем себя: если сделать вид, что смерти не существует, никто из наших родных и близких не умрет. И мы сами тоже.
Но готовиться все-таки нужно, потому что смерть существует. Она происходит с нами здесь и сейчас. Каждый день мы понемногу умираем.
Осознание скоротечности человеческого века, своей и чужой бренности – краеугольный камень философии стоиков. Оно же необходимо для того, чтобы справиться с хаосом, который привносят в нашу жизнь беды, потери, внезапные встречи со смертью.
Вот с этого мы и начнем.
Древние стоики жили в тяжелые, опасные времена. Матери и младенцы умирали в родах, эпидемии выкашивали целые города, социальное расслоение принимало чудовищно уродливые формы (одной из них было рабство). Участвуя в государственных делах – как Сенека, – надо было все время помнить о врагах, которые могли подослать убийц или добиться изгнания (сам Сенека был дважды изгнан из Рима и получил от бывшего покровителя, императора Нерона, приказ покончить с собой).