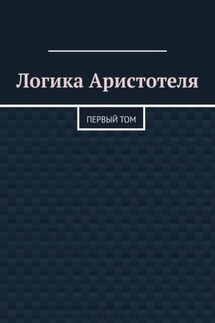Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг - страница 29
Фундаментальный закон морального сознания, объективная этическая ценность, является, таким образом, объективным законом, согласно которому субъективное сознание является моральным, но не законом, согласно которому субъективное моральное сознание является таковым. В смысле бытия морального сознания мы вообще не могли бы говорить о фундаментальном законе морального сознания. Здесь можно было бы констатировать многообразие естественных законов, определяющих развитие общей нравственной жизни, которая может стать и бнравственной, в зависимости от разнообразия характеров народов и рас и внешних условий их жизни. Однако основной закон нравственного сознания определяет то требование-содержание, которое, несмотря на все разнообразие содержаний бытия, определяемых естественным законом, позволяет также характеризовать ту или иную сферу внутри содержаний бытия именно как нравственную, поскольку они, несмотря на разнообразие содержания, единообразно предстают как субъективные отношения к ней.
Поскольку субъектность должного имеет в субъекте точку связи и отношения с волей, а само должное, следовательно, относится к воле, то характер этического фундаментального закона определяется более точно в капитуляции воли. Таким образом, даже если субъектная связанность этической законности выражается в отказе от воли, именно отказ от воли отличает этическую законность от всякого субъективного произвола. В своей обоснованности этическая законность остается нависимой как от воли действовать в соответствии с ней, так и от попыток определить ее чер познание. ПАУЛЬ ФЕРДИНАНД ЛИНКЕ недавно и по праву рко отверг распространенное смешение этих трех точек зрения, а также строго разграничил закон как таковой, действие в соответствии с законом в жизни и определение закона в этической науке. В характере закона заложена его всеобщность. Поскольку это не закон бытия, а закон долженствования, он должен быть универсальной задачей воли. Будучи основополагающим нравственным законом, он, следовательно, должен быть адресован всякой воле, которая вообще может относиться к долженствованию, т.е. разумной воле. В противном случае мы могли бы говорить не об общей задаче воли как таковой, а об общих задачах воли. Поэтому с самого начала мы должны обратить внимание и на различие между общностьюэтической законности вообще, которая, с одной стороны, касается этического основного закона как такового, и, с другой стороны, разнообразием этической законности вообще. Если здесь можно говорить о правовом многообразии, то это не следует понимать в смысле многообразия естественного права. Ибо их содержание есть и остается содержанием бытия. Содержание же этической законности есть и остается, даже если в рамках ее общности снова можно обозначить различие, содержанием должного.
Две формы общности этической законности в целом
Для того чтобы точнее определить различие внутри этической законности, содержание которой должно быть объективным, чтобы она сама сохраняла характер законности, мы должны прежде всего вновь связать ее с субъектностью. В этой субъектности, как общей задаче воли, она может либо, несмотря на свою всеобщность и объективность, не быть обращенной к каждой разумной воле как таковой, либо, в своей всеобщности и объективности, быть обращенной к каждой разумной воле. В последнем случае также должно быть применено то, что оно вообще должно быть волеизъявлено. В этом желании-бытии его объективность и всеобщность также выражаются со стороны субъектности. Но оно еще н е обязательно должно быть желаемо кажд о й волей. Его желание может быть связано с условиями возможности его осуществления. И только в рамках этих условий возможности осуществления они были бы общими. Их содержание имело бы ту же объективность, что и содержание общей задачи воли, направленной на каждую волю. В этой объективности заключалась бы и его всеобщая необходимость признания для всякой воли, которая могла бы относиться к этической законности как ought-legality, т.е. разумная воля. И эта общначимая необходимость признания объективного содержания со стороны субъектности обозначала бы и всеобщность этой этической законности. Но не будет ли, таким образом, объективное содержание закона уже содержать в себе и его всеобщую необходимость исполнения для каждой разумной воли, поскольку исполнение может быть связано с определенными условиями возможностей исполнения. Таким образом, при той же объективности положения закона, оно в своей субъектности все же допускает явное расхождение двух форм всеобщности. Б предпосылки основного этического закона, направленного на каждую волю, была бы, конечно, мыслима и этическая законность, не направленная на каждую волю. Ее содержание или содержания уже должны быть способны предстать как содержательные спецификации этого основного закона. Но они останутся, хотя и конкретизированными по содержанию и обусловленными по возможности исполнения, тем не менее общими по своей общеобязательности признания и долженствования. И именно это придавало бы им правовой характери отличало бы их от просто субъективных и индивидуальных намерений, от волевых детерминаций, остающихся только в субъекте. Общий момент, таким образом, прояснил бы правовой характер обеих форм всеобщности этической законности. Однако в рамках их общего характера можно выделить одну из них как всеобщую, другую – как конкретную. Если мы называем этическую законность заповедью в силу ее характера как задания, направленного на волю, то в отношении всеобщей законности мы также могли бы говорить только об этических заповедях в единственном числе, а в отношении законности, которая сама является всеобщей, но конкретизируется в силу разнообразия ее содержания, мы могли бы говорить об этических заповедях во множественном числе.