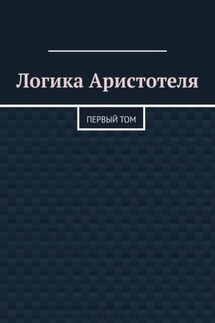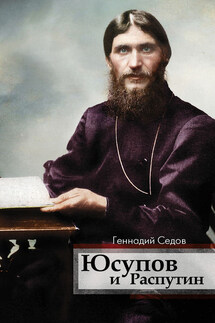Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг - страница 30
Здесь мы в определенной степени встречаемся с различием Канта между «категорическим императивом» и «гипотетическим императивом». К сожалению, Кант не сделал это различение особенно плодотворным. Действительно, очень скоро после того, как он ввел это различие, «гипотетические императивы» настолько выпали из его осмысления во всем своем значении и объеме, что достаточно часто испаряются в просто «субъективную максиму», с одной стороны, и в просто «техническое правило» – с другой, тогда как на самом деле, как выражается и Кант, они занимают некое среднее положение между «категорическим императивом» и «субъективной максимой». Эта двусмысленность и дисбаланс у Канта порождают не только грубое и легко развеиваемое заблуждение, будто этическая законность вообще лишена содержания, но и гораздо более роковое заблуждение, будто, поскольку «категорический императив» является «формальным» в хорошем и разумном смысле, этика должна быть «чисто формальной» в плохом и неразумном смысле.
Форма, содержание и материал этического определения
То, что «формальное» означает столько же, сколько и бессодержательное, было и остается широко распространенным заблуждением, которому подверглись уже достижения Канта в области этики. Однако этому заблуждению в последнее время противостоял не только я, но и задолго до меня КАРЛ ВОРЛДНЕР, а затем и АВГУСТ МЕССЕР. Это недоразумение тоже связано с только что упомянутым недостатком, а именно с тем, что Кант действительно недостаточно подчеркивал момент содержания, хотя сам он ни в коем случае не допускал ошибки, отождествляяформальное и бессодержательное. Ведь даже если он называет «формальным» именно правовое установление, он никогда не становился жертвой абсурда, согласно которому право как таковое не имеет содержания.
Однако, как бы ни относиться к Канту, нельзя прийти к систематической точности, если не понимать, что «формальное» и «содержательное», находящиеся в неразрывной взаимосвязи друг с другом, не являются взаимоисключающими противоположностями, что даже «формальное» и «материальное» не исключают друг друга, как бы строго они ни были отделены друг от друга, и что различие между «содержательным» и «материальным» особенно необходимо, именно потому, что их часто путают.
Если этическая законность предстает как общая задача воли, то, о какой бы общности ни шла речь, она есть форма ее детерминированности по отношению к данной актуальной субъективной воле, насколько она вообще может быть этически детерминирована. В ней, однако, должно заключаться одновременно и содержание закона, что отличает его этический характер от логического, эстетического и т.д., поскольку в задаче всегда что-то уступает данной воле. Это нечто и есть содержание закона. Смысл и ценность- его форма. Выражаясь субъектно, это означает: должное как таковое обозначает форму, желаемое – содержание закона. Закон сам есть форма как принцип ценности вообще и имеет содержание как содержание ценности. В своей неразрывной целостности формы и содержания он образует критерий оценки данной актуальной воли с точки зрения ее этической детерминированности ценностью. Если в соответствии со своей субъектной принадлежностью она и предстает в своей форме как должное, в своем содержании как предназначенное, то, тем не менее, как со стороны формы своей действительности, так и со стороны содержания своей действительности она совершенно не зависит от того, относится к ней действительная субъективная воля или нет. Напротив, его ценность зависит от его отношения к праву.