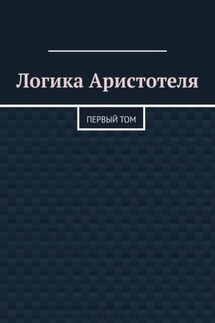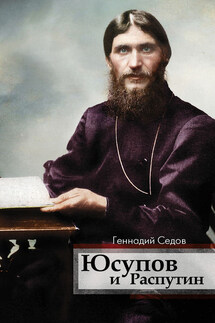Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг - страница 32
Поэтому только это и может быть вопросом: Как я должен волить, чтобы волить так, как я должен волить? Этот вопрос должен быть задан ботносительно к материальному, если мы хотим достичь всеобщности, которая не зависит от материального. Ведь материальное никогда не бывает общим, а всегда индивидуально. Поэтому общая заповедь может быть дана только воле, которая как таковая всегда индивидуальна, поскольку она в то же время супраиндивидуализирует ее в ее индивидуальности, требует от нее не просто оставаться индивидуальной, но и подниматься и расширяться до супраиндивидуального всеобщего. Поэтому истинное и подлинное содержание самого общего этического фундаментального закона действительно может означать не что иное, как волеизъявление таким образом, чтобы мое волеизъявление как волеизъявление (а не волеизъявление) было возведено в статус общего принципа, подобно тому как Кант в форме «категорического императива» фактически выразил «фундаментальный закон чистого практического разума». В этом хорошем смысле закон не лишен содержания, но его содержание само по себе «формально», поскольку оно не «материально», а сам закон не является «чисто формальным» в ложном смысле, поскольку он не материален.
Моральная цель и моральный мотив
Ответ на вопрос: как я должен волить, чтобы волить так, как я должен волить, дал в качестве содержания закона требование к моему хотению быть пригодным в качестве общего принципа. Таким образом, сам закон признается целью или назначением моего хотения. Ради закона как цели, ради закона как такового я должен волить, чтобы волить нравственно. Мое желание должно быть определено в соответствии с законом, чтобы оно могло претендовать на моральную ценность. Эта идея объединяет два аспекта, которые тем рче различаются по своему внутреннему смыслу, чем чаще их смешивают в этических дискуссиях. С одной стороны, есть закон как цель, с другой – детерминация воли как мотив. И то и другое стоит в этически необходимом субъектно – объектном соотношении. Но именно поэтому субъективное и объективное в этой корреляции не совпадают. Поскольку и то, и другое может быть обозначено одним и тем же словом «причина», поскольку на вопрос: по какой причине человек поступил, можно ответить, исходя не только из закона или цели, но и из мотива, поэтому их различие легко скрывается языком. Но «причина» в обоих случаях означает совершенно разные вещи, как бы тесно они ни были связаны друг с другом. Закон как цель- это объективная юридическая причина, в соответствии с которой должно осуществляться намерение; мотив – это субъективное побуждение, из которого намерение фактически осуществляется. Если этот субъективный мотив направлен в соответствии с объективным правовым основанием, то он является правильным в этическом смысле, т.е. нравственным. Таким образом, в морали цель и мотив вступают в конкретную связь. Но звенья этой связи от этого не становятся тождественными. Представление или осуществление справедливости субъективного мотива в желании действовать в соответствии с целью называется долгом. Направить мотив в сторону закона – значит сделать закон эталоном долга в рациональном сознании. В волевом мотиве, который таким образом направляет себя, закон тем самым завоевывает уважение субъекта. Направить мотив в соответствии с целью – значит: уважать закон, значит: иметь в качестве мотива сознание долга, ибо закон есть правовое основание. Таким образом, уважение или сознание долга – это специфически этически обусловленная движущая сила или моральный мотив. И в соотнесении с этим соображением нравственный основной закон заявляет в качестве своей цели: «Поступать из уважения к закону» в кантовской формулировке или: «Поступать из сознания долга» в формулировке FICHTE.