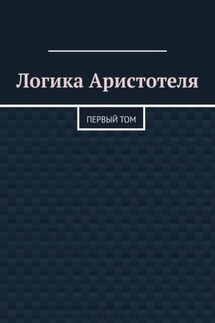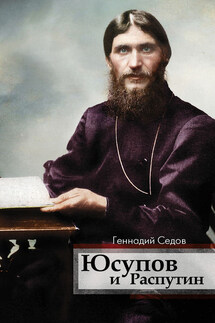Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг - страница 31
Как в отношении закона, короче говоря, следует различать долженствование и намерение, но они образуют неразрывное целое в соотношении формы и содержания, так и в отношении действительной волиследует различать хотение и намерение, но они, со своей стороны, также образуют неразрывное целое и коррелятивное единство. Неправильно истолковывать акцент на ценностном характере формы этической законности как означающий, что на основании формального этического определения воля не должна иметь содержания, значит неверно оценивать факты, не только упуская из виду двойное определение содержания желаемым и желающим, но и не признавая, что желаемое и желающее находятся в совершенно иной сфере, именно в сфере ценности, чем действительная воля, которая находится в сфере реальности как с желающим, так и с желаемым. Поэтому в противовес этому необходимо прямо подчеркнуть, что как в долженствовании всегда есть желаемое, так и в воле всегда есть желаемое. Воля, которая ничего не хочет, ничего не хочет, а воля, которая ничего не хочет, вообще не хочет и, следовательно, не является волей. Это нечто желающее теперь можно было бы также назвать содержанием желания в отличие от желания как желания, которое «имеет» свое «содержание» как «форму», но теперь в смысле «акта». Но для того, чтобы отличить от чего-то должного как содержания закона или намерения, что-то волевое как содержание действия или намерения, это что-то волевое называется «материей» или также «материалом» воли.
Содержание этического основного закона par excellence
Основной закон морали характеризуется универсальной всеобщностью. Именно это определяет его содержание, или должное содержание, от его субъектности. Поскольку он обращен ко всякой разумной воле, его содержание, как бы мало ни была воля б желаемого, не может определяться этим желаемым, которое различно для разных воль. В этом нечто волевом, которое уже отличалось от нечто должного, не может, следовательно, заключаться нечто должное, а значит, и не смысл всеобщего закона, более того, не смысл этического закона вообще. Различение ШОПЕНГАУЭРОМ вопроса: «могу ли я делать то, что хочу» и вопроса: «могу ли я также хотеть то, что хочу» звучит очень рко и четко, но на самом деле оно как раз размыто и неясно. В нем смещаются различия не только между объективностьюи всеобщностьюи различными формами всеобщности, но и между содержанием и материей; различия, о которых ШОПЕНГАУЭР, по его собственному признанию, даже отдаленно не задумывался. Вопрос о том, могу ли я также хотеть то, что я хочу, – это вовсе не этический вопрос; это также не психологический вопрос. В определенном смысле это бессмысленный вопрос. Ведь если я чего-то хочу, я должен быть в состоянии этого хотеть. Если бы я не мог этого хотеть, то я бы вообще этого не хотел. Кантовское различие между «ли» и «как» возможности, которое КАНТ так глубоко и содержательно применяет к общей проблеме опыта, здесь для ШОПЕНГАУЭРА не является вопросом. Поэтому все остается по- прежнему: то, что я хочу, я всегда должен иметь возможность хотеть. Для этого мне, конечно, еще не нужно уметь это делать. Но именно этим и характеризуется неправильное понимание вопроса: могу ли я также хотеть то, что я хочу, что вопрос: могу ли я также делать то, что я хочу, не может быть поставлен в параллель с ним. Вопрос: могу ли я также хотеть то, что я хочу, мог бы соответствовать только вопросу: могу ли я также делать то, что я делаю. А с бессмысленностью этого вопроса становится очевидной и бессмысленность первого вопроса.