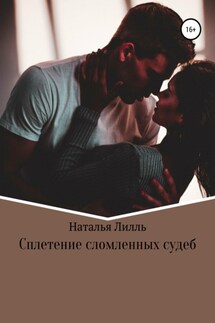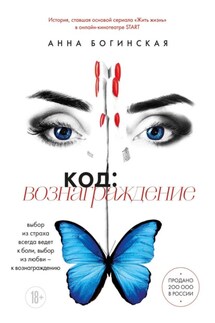Непоправимость зла - страница 17
Побег сорвался из-за отсутствия воли к действию. Ни у Вити, ни у меня не хватило воли осуществить план. Я очень испугался охраны. Я очень испугался охраны и карцера, куда отправляли пойманных беглецов, и могли меня тоже затащить в карцер. Это был первый сознательно пережитый мной страх, страх социального возмездия за умысел нарушения установленного порядка.
Утром няни и воспитатели, обсуждая ночной плач Вити, решили осмотреть его постель: осмотр дал результат, после которого начался общий «шмон». Сухари обнаружили не только у Вити, но и у меня. И еще – у Юры Гармаша. Витя – ему было три с половиной года – стал рассказывать про побег, а Юра Гармаш – про голод, который его мучил, если долго не давали есть. Я налгал тоже про голод. Воспитатели запутались в нашей лжи и предали весь «инцидент» забвению – детский вариант лагерной амнистии. Я впервые в жизни осознал силу случайностей – и положительную, когда «везет», и отрицательную – когда «не везет».
Надо было найти новую мечту. И тут мне повезло: откуда-то привезли много детских книжек, и воспитатели начали нам их читать вслух. Книжки были с большими картинками. Под картинами – стихотворные строки. Некоторые из них я помню до сих пор: «Побежала мышка-мать, тетю-лошадь в гости звать: приходи к нам, тетя-лошадь, нашу детку покачать. „И-го-го“ поет лошадка. Спи, мышонок, сладко-сладко, повернись на правый бок, дам овса тебе мешок…» Это была сказка про глупого мышонка, который не поддавался убаюкиванию, не хотел уснуть по-хорошему. Тогда мышка-мать позвала тетю-кошку, которая стала убаюкивать мышонка сладким мяуканьем и в конце концов съела его: «…Возвратилась мышка-мать, а мышонка не видать…».
Первое столкновение с детской сознательной подлостью
В начале осени из Потьмы увезли «на волю» очередную партию трехлеток и тех, кто уже немного перерос, кому шел уже четвертый год. Мама снова уговорила оставить меня с ней. Сердобольной, отзывчивой начальницы Ляпушиной уже не было, ее сменил капитан Гурьянов – фронтовик, после тяжелого ранения направленный к нам в Потьму. Видимо, уже шел сорок третий год, потому что у мамы закончился срок осуждения – пять лет – и ее, как и некоторых других женщин, расконвоировали, но не разрешили покидать Потьму до особого распоряжения, так как шла война и свертывать пошив воинской одежды было невозможно. Мама была очень хорошей швеей и вообще рукодельницей.
Еще до расконвоирования мама брала меня в гости из детского барака к себе в жилой барак и я видел, как несколько десятков женщин живут в одной комнате, очень большой и темной. Но спали они не на нарах, а каждая в своей кровати. Это был праздничный для меня и для мамы день, когда я «гостил» в ее бараке. Но сам барак оставил у меня жуткое воспоминание. Отводя меня обратно в детский барак, мама спросила, как мне понравилось у нее в гостях. Я не стал разводить дипломатию и сказал ей, что лучше жить в детском бараке. Мама опечалилась на мой ответ, но потом согласилась: «Конечно, ты прав. Женский барак не для детей». У нас вообще редко попадаются сведения о жизни лагерных детей. Надеюсь, мои свидетельства хоть как-то замажут этот чудовищный пробел. Жаль, что многое помня, я еще больше забыл, теперь уже не вернешь.
Однажды мне попалась на глаза маленькая заметка в газете «Красная Звезда» от 5 августа 1993 г. «Дети ГУЛАГа». Некто Андрей Соколов (из г. Пскова) писал в редакцию: «С ужасом недавно узнал о том, что не минула горькая участь гулаговской жизни даже детей». Редакция сообщала, что обратившись в Институт военной истории, ее работники узнали следующее: в 1940 г. в системе ГУЛАГа действовало 162 приемника-распределителя; за 4 года они приняли с улиц 952 834 подростка, часть из которых была направлена в детские учреждения Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомсобеса, а часть – в трудовые колонии ГУЛАГа, которых насчитывалось 50; за 4 предвоенных года через эти трудколонии было «пропущено» 155 506 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из которых судимых была лишь половина.