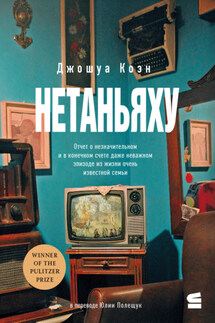Нетаньяху. Отчет о второстепенном и в конечном счете неважном событии из жизни очень известной семьи - страница 12
В моем детстве в здании церкви предположенцев – то есть в земном, материальном ее воплощении – действовала синагога «Молодой Израиль». Там молились мои родители, туда я ходил на занятия перед бар-мицвой. Точно не помню, когда именно паства рассеялась, здание выставили на торги, продали карибским католикам и над входом приделали козырек, – должно быть, еще до смерти моего отца (кстати, он называл синагогу «шул»). Кадиш по нему мне пришлось читать в другом месте.
В детстве мое буднее утро начиналось в другой величественной груде кирпичей в центре квартала – 114-й средней школе, где стайка старых дев и молодых вдов, тамошних преподавательниц, всполошенно верещала о том, что в Америке все равны, не только мужчины, но и женщины, что в этой стране можно говорить что вздумается, быть кем хочешь, поклоняться любому богу – или не поклоняться никакому, потому что закон в равной степени защищает и атеистов; даже агностики, если они граждане Америки, вольны выбирать себе будущее.
Идеологическая обработка завершалась со звоном колоколов, и я плелся за несколько кварталов в пыльный бункер «Молодого Израиля»: в подвале синагоги, посреди плесневелых книг – полки с ними рушились в самый неожиданный момент, как в дешевом фарсе, – кворум морщинистых раввинов, переживших погромы в черте оседлости, принимался опровергать эти истины, сокрушать эти истины, глумиться над ними, ровнять их с землей. Ничуть не заботясь о том, что здесь, в Америке, мы вольны сокрушать, вольны глумиться, вольны ровнять с землей, раввины вытаскивали эти истины во двор и погребали их в земле Бронкса, посыпав солью – или цементом, – чтобы на этом месте никогда ничего не выросло.
Теперь-то, наверное, в этом подвале стучат в барабаны на мессе исступленные гаитяне и кричат священникам по-креольски, но в прежние дни вздор несли с иным акцентом и языками исступления были иврит и арамейский.
Дни моего детства были настолько поделены меж религиозным и светским, и религиозные возражения светскому бывали настолько методичны и точны, что порой мне в душу закрадывалось безумное подозрение, будто раввины каким-то образом очутились со мной в школе, каким-то образом спрятались в моем ученическом ранце и весь день провисели на крючке в классе, впитывая сказанное мисс Янелло про Билль о правах или мисс Мерфи о филогенезе, ископаемых и наследственности: так раввины узнали, на что именно возражать и что бранить, пока за окном смеркается и небо отливает темным габардином.
Сильнее всего меня занимала разница исторических истолкований. История в общеобразовательной школе была неотделима от прогресса, мир прояснел с Просвещением и становился все лучше; мир и дальше будет совершенствоваться без предела, если, конечно, все страны постараются стать как Америка, а Америка постарается еще больше быть собой. Прошлое – лишь процесс достижения настоящего, а настоящее – лишь современный этап величайшей Америки будущего, его поглотят завтрашние свободы и распространение капитала, так что в конце концов всемирная история преобразится во всемирную демократию. И такая концепция мелиоризма