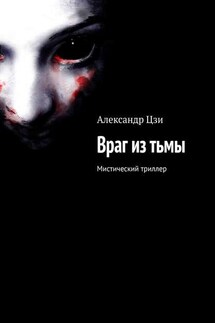Ничего страшного. Сказать «да» несправедливому - страница 25
В тот день, когда мы начали химиотерапию, мальчика Костю с его мамой выписали, и в палату поступили новые пациенты: девочка Катя с бабушкой и Петя с папой (разумеется, это не настоящие имена).
Катя сразу внесла сумбур в наши уже устаканившиеся будни. Она просила у Олеси ее игрушки и требовала поиграть с ней. Олеся была ошарашена Катиной настойчивостью и злилась. Мы тогда принесли из дома подаренную родственниками и моими друзьями большую коллекцию «Щенячьего патруля». И все дети в палате знали, что делиться и играть с кем-то Олеся не намерена, она любит играть одна или со мной. Катя, видевшая Олесю впервые, была, конечно, удивлена и обижена отказом.
Катя при этом была постарше Леси года на полтора. Высокая, худенькая девочка с длиннющими волосами, прибранными в косу, с большими голубыми глазами. У нее не было рака, она наблюдалась у гематолога, и ее анализы постоянно мониторили, а при критических отметках девочку госпитализировали то с мамой, то с бабушкой. Это был ребенок, который с врачами общался чаще, чем с воспитателем детского сада.
Я часто думала: а что хуже – иметь конкретное раковое заболевание, которое можно излечить за ограниченное время определенным набором медикаментов и вмешательств, или что-то хроническое, что тоже сопряжено с постоянными жизнеугрожающими состояниями, но это можно и нужно непрестанно контролировать, просто называется оно не так страшно и с ним можно теоретически прожить всю жизнь, разве что как на пороховой бочке?
Я до сих пор общаюсь со многими родителями бывших раковых больных, как и с самими выздоровевшими. Они живут под постоянным контролем и боятся того, что болезнь может вернуться. То есть получается, что особой разницы нет: напряжение присутствует в любом случае, как бы заболевание ни называлось.
Выходит, что, независимо от реальности, внутренние процессы и ощущения плюс-минус одинаковы, зачем же тогда сравнивать внешние факторы? Выбор только за нами – уйти в условный мир относительности, где есть только шкала хуже-лучше, и постоянно мериться с другими в соответствии с этой шкалой, радоваться или расстраиваться. Или жить уже с той реальностью, которая есть в твоем безотносительном мире.
Реальность уже не изменишь, любая задача начинается с «дано»: тебе дано именно это. Если бы люди не смотрели, как оно у других, они бы даже не давали оценку, что это плохо. Рождались бы все с раком или другим заболеванием – и это считали бы нормой. Но какая разница, в каком мире существовать, в этом, где кто-то болеет, кто-то здоров, или в том, который мы только что вообразили, где болеют абсолютно все? Во втором как будто проще, правда? Там ты не одинок и не выделяешься. Но давай посмотрим правде в глаза: ты одинаково себя будешь вести и болеть в обоих мирах. А оценку, что болезнь – это ненормально, чаще дают люди со стороны.
Я знаю излечившихся пациентов или тех, кто давно борется с болезнью. Они не понимают, как жить иначе, в их мире это нормально. Да, сначала их ломает, когда только ставится диагноз и начинается лечение. Да, хорошо бы по-другому, но не получается. И разве хотелось бы им слышать о том, какие они бедные, как им не повезло? Ведь такие слова – это перенос страхов здоровых людей, боязнь оказаться на месте больного. У пациентов же этого страха нет, они уже там. Поэтому в вашем мире они бедные и несчастные, а в своем – вполне освоились, ведь другого варианта у них никогда уже не будет, даже пациенты в ремиссии – это совсем другие люди. Поэтому, когда ты болен, наложение своей картины на чужую – уже априори проигрыш.