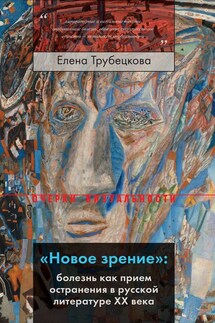Читать онлайн Елена Трубецкова - «Новое зрение»: болезнь как прием остранения в русской литературе XX века
© Е. Трубецкова, 2019,
© Е. Габриелев. Оформление, макет серии, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
Смена визуальных кодов (Вместо предисловия)
В 1922 году Юрий Тынянов в статье о Пастернаке назвал болезнь «самым удобным трамплином, чтобы броситься в вещь и разбудить ее»[1]. Болезнь как способ нового видения, как прием остранения, описанный Виктором Шкловским, – предмет нашего исследования.
Увидеть мир по-новому, очищенным от автоматизма восприятия взглядом, стало общей целью и одновременно объектом острых споров представителей разных направлений модернизма и авангарда начала XX века. Неотъемлемым признаком подлинного искусства формалисты назовут умение «делать знакомые вещи незнакомыми» (В. Шкловский)[2]. Юрий Тынянов, говоря о значении поэзии Хлебникова, определит его произведения как «новое зрение»[3]. О необходимости формирования нового видения будут писать как философы рубежа веков (Ч. Хинтон, П. Успенский, П. Флоренский), так и художники (В. Кандинский, М. Дюшан, К. Малевич, М. Матюшин, П. Филонов, Ф. Купка, А. Бретон, А. Родченко).
Само понятие «новое зрение» включает в себя сложный комплекс смыслов, связанных, с одной стороны, с совершенствованием самого физического процесса смотрения, то есть «восприятия органом зрения и зрительным анализатором величины, формы, цвета предметов и их взаимного расположения», а с другой – с изменением системы взглядов на мир – мировоззрения. Не случайно «мировоззрение», образованное как калька с немецкого «Weltаnschauung»[4] («Welt» – «мир», «Аnschauung» – «воззрение»), по самой своей форме связано с феноменом визуального восприятия. Эта же двупланность относится и к понятию «видение», употребляемому и как синоним «зрения», и в значении «восприятие» и «система мнений»[5]. Аналогичный пример – слово «взгляд» как «направленность зрения» и как «мнение».
Истинность и наибольшая достоверность зрительных впечатлений отражается в языковой картине мира[6]. Об этом свидетельствует внутренняя форма слов, утверждающих достоверность суждения: «очевидно», «наглядный пример». В то же время заблуждения трактуются как «слепота». Само зрение, его деформация или полная его утрата, так же как и орган зрения – глаз – имеют большую область метафорических проекций в области этики и эстетики[7].
В христианской традиции зрение осмысляется как особый вид духовной деятельности: «Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно» (Лук.11: 34)[8]. Глаза и феномен зрения наделяются исключительным значением в иконографии.
Морис Мерло-Понти рассматривал видение как данную человеку способность «изнутри участвовать в артикуляции Бытия». Анализируя уникальный опыт и произведения П. Сезанна, П. Клее, А. Матисса, Т. Жерико, О. Родена, он пришел к выводу, что видение – «встреча, как бы на перекрестке, всех аспектов Бытия»[9]; и в этом непрерывном и нерасторжимом взаимодействии человека и природы «само безмолвное Бытие» обнаруживает присущий ему смысл.
«Зрением возглавляются наши способности познавать мир»[10], – утверждал Павел Флоренский. Рудольф Арнхейм писал, что визуальные образы в большой степени определяют когнитивные процессы и зрительное восприятие по своей структуре представляет собой «чувственный аналог интеллектуального познания»: «В настоящее время можно утверждать, что на обоих уровнях – перцептивном и интеллектуальном – действуют одни и те же механизмы»[11]. Неразрывную связь когнитивных процессов с визуальным восприятием подтверждают медицинские данные: так, «опыты над внесетчаточным зрением свидетельствуют о том, что некоторые пороки глаз, например, страбическая амблиопия, вызывают у пациента нарушение сознания: глаз сохраняет свои свойства, в нем создается изображение, но сознание отклоняет его с растущим упрямством, приводящим иногда к полной слепоте»[12].
Зрение неразрывно связано не только с сознанием индивида. Каждая эпоха имеет свою визуальную картину мира, в которой отражаются основные эстетические, религиозные, философские, научные искания[13]. Михаил Матюшин считал: «Художник всегда отмечает то состояние восприятия пространства – мерность, – которое свойственно его эпохе»[14].
Смена визуальных кодов в искусстве рубежа XIX–XX веков была обусловлена как фундаментальными научными открытиями, техническими изобретениями, приведшими к появлению новых медиа, так и осознанием исчерпанности старых форм, не способных отразить катастрофическую социальную атмосферу эпохи и передать религиозный и философский кризис, испытываемый современниками.
Проблема кризиса искусства, причин его возникновения и новых форм, ставших ответом и способом преодоления этого кризиса, волновала умы как в начале ХХ века, так и на рубеже ХХ – XХI веков. В различных аспектах и с разными «диагнозами» этот вопрос был рассмотрен в трудах религиозных мыслителей и философов, искусствоведов, писателей, художников, критиков. С одной стороны, высокий уровень проработанности этой проблемы, а с другой – ее принципиальная неисчерпаемость позволяют остановиться только на некоторых моментах изменения культурной и научной парадигмы, которые представляются нам наиболее значимыми для понимания актуальности концепции «нового зрения» для искусства ХХ века.
«Новое зрение» – емкая метафора искусства, утверждающего новое отношение к миру и к человеку. Например, когда Алексей Крученых говорил: «Мы стали видеть здесь и там ‹…› Мы рассекли объект! Мы стали видеть мир насквозь»[15], – он декларировал принципы работы со словом, которые должны были способствовать «постижению мира, разбившему убогое построение Платона и Канта».
Но даже фрагментарный обзор показывает, что идея «нового зрения» в научном и философском контексте трактовалась не только метафорически. Иное осмысление пространства в геометрии Лобачевского (1826–1830), предсказание Дж. Максвеллом существования электромагнитных волн (1865) и опытное подтверждение этого факта Г. Герцем (1868) (стремящимся теорию Максвелла опровергнуть), открытие рентгеновского (1895) и гамма-излучения (1900), появление на рубеже веков квантовой физики и обоснование дуализма волна – частица де Бройлем (1924), создание общей и специальной теории относительности Эйнштейном (1905–1916), математическое доказательство четырехмерного пространства – времени А. Пуанкаре (1905) и Г. Минковским (1908), обоснование принципа дополнительности Нильсом Бором (1927) и принципа неопределенности В. Гейзенбергом (1927) стали не только фундаментальными научными открытиями, – они перевернули привычное представление о пространстве и времени, поставили под сомнение вопрос о возможности исчерпывающего знания и описания окружающего мира, показали существование невидимой для обычного глаза энергии.
Увидеть и отобразить сложный многомерный образ реальности по-разному пытались художники и поэты. «После произведенного Эйнштейном геометрически-философского землетрясения, – писал Евгений Замятин, – окончательно погибли прежнее пространство и время. Но еще до Эйнштейна землетрясение это было записано сейсмографом нового искусства, еще до Эйнштейна покачнулась аксонометрия перспективы, треснули оси Х-ов, Y-ов, Z-ов – и размножились лучами. В одну секунду – не одна, а сотни секунд; и на портрете Горького – рядом с лицом повисли: секундная, колючая от штыков улица, секундный купол, секундный дремлющий Будда; на картине одновременно – Адам, сапог, поезд. И в сюжетах словесных картин – рядом, в одной плоскости: мамонты и домовые комитеты сегодняшнего Петербурга; Лот – и профессор Летаев. Произошло смещение планов в пространстве и времени»[16].
Долг художника – найти визуальный эквивалент скрытых сил Вселенной, изображать высшую, «истинную действительность» и уникальный мир человека. «Упорно и точно рисуй каждый атом»[17], – призывал Павел Филонов. Обосновывая принципы аналитического искусства, он говорил о стремлении к «абсолютному, наибольшему, полнейшему исчерпывающему видению», для чего необходим не только «зоркий», но «знающий глаз исследователя». Так же, как при изображении яблони мастера аналитической живописи должны интересовать не ее ствол, листья, а, в первую очередь, процесс, «как берут и поглощают усики корней соки почвы, как эти соки бегут по клеточкам древесины вверх, ‹…› перерабатываются и превращаются в атомистическую структуру ствола и ветвей ‹…›», так и при создании аналитических портретов главным становится «не пиджак или лицо человека», а «явление мышления с его процессами в голове этого человека или то, как бьет кровь в его шее через щитовидную железу, и притом таким порядком, что этот человек неизбежно будет либо вялым, либо бодрым, умным, либо идиотом»[18]. «Знающий глаз» преодолевает покров реальности. Филонов отражает утопическую мечту художников и ученых увидеть незримое, проникнуть внутрь материи и сознания.
На смену «радости узнавания» классического мимезиса приходит иное взаимодействие реальности и искусства[19]. Художник становится со-творцом и открывателем мира, недоступного профанному взгляду. «‹…› между искусством ТВОРИТЬ и искусством ПОВТОРИТЬ большая разница», – утверждал Казимир Малевич[20]. «Зачем рисовать реальные деревья? – задавал риторический вопрос Франтишек Купка. – Природа все время меняется, ее суть – в метаморфозах». Поэтому беспредметная картина «воспроизводит жизнь точнее, чем самая верная реалистичная живопись»[21].
Во многом изменили представление о природе визуального восприятия исследования в области оптики и физиологии зрения. Изобретение Г. Гельмгольцем офтальмоскопа, позволяющего обследовать глазное дно, произвело переворот в офтальмологии, многие считают, что это изобретение и стало основной причиной выделения ее в особую отрасль науки. Были описаны и введены новые методы в лечении глазных патологий (в частности, катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки) Альберта фон Грефе, Алексея Маклакова, Михаила Авербаха. Активно изучалась роль нервных рецепторов и мозга в процессе зрения. Развитие трехкомпонентной теории Юнга – Гельмгольца и обсуждение оппонентной гипотезы цветового зрения Эвальда Геринга были актуальны не только для ученых и физиологов. Они притягивали внимание художников, поэтов, деятелей театра. Опыты импрессионистов и теория цвета Василия Кандинского, эксперименты Франтишека Купки, лучизм Михаила Ларионова стали своего рода развитием и уникальными интерпретациями научных идей времени.
Очень интересен пример Михаила Матюшина, создавшего концепцию «расширенного зрения», опирающуюся на труды по оптике и физиологии зрения и оказавшую большое влияние на вторую волну русского авангарда[22]. Развивая научные идеи теории двойственности зрения (т. е. разделение на центральное и периферическое)[23], Матюшин говорил о необходимости одновременного задействования всех рецепторов сетчатки (и колбочек желтого пятна, и палочек периферии[24]) для того, чтобы достичь «двойного зрения», при котором глаз круглосуточно мог бы видеть не только движение и глубину, но и цвета – вне зависимости от условий освещения.
Говоря о несовершенстве зрения человека, в частности, об очень узком угле обзора центральной части глаза (видении мира «как в тонкую трубочку»), Матюшин был уверен, что тренировками можно добиться расширения угла зрения и обострения его четкости в любое время суток, как у некоторых животных и птиц