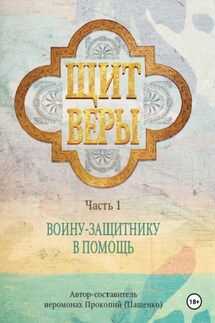О проблемах созависимости - страница 8
Если на ситуацию посмотреть под таким углом, то становится понятным, что простые рекомендации по отвлечению и развлечению не избавят человека от сформированной травматической доминанты. Необходимо построить новую, согласно выражению Ухтомского, бодрую доминанту, тогда действие травматической затормозится. А высшие смыслы, найденные человеком, помогут перестроить травматическую доминанту, превратить опыт негативный в источник мудрости. Так человек выходит в посттравматический рост.
Механизм формирования травматической доминанты и стратегия её преодоления представлена в тексте «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты», в частности, в частях 2.1–2.3. В тексте опубликован под названием «Депрессия и травма: как преодолеть».{32}
Также материалы о преодолении травматического опыта упоминаются в подборке «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты» – тексты и беседы иеромонаха Прокопия (Пащенко)».{33}
То же, «В контакте».{34}
Поиск смыслов, которые могли бы помочь родителям «особых детей»; является руководящей идеей цикла бесед «Особые дети среди нас».{35}
Здесь можно привести аннотацию к циклу «Особые дети среди нас», чтобы показать, насколько сильно концепция созависимости сужает понимание проблемы. Чтобы человек мог преодолеть ситуацию, понимание проблемы должно быть обогащено конструктивными смыслами.
Из аннотации: «Когда рождается ребёнок с аутизмом, ДЦП и иными формами «особости», это нередко воспринимается как катастрофа мамой (если папа есть, то и – папой). Чтобы выйти на новую ступень развития, на которой возможны счастье как родительское, так и «общечеловеческое», нужны новые смыслы. Во время подготовки и проведения бесед «Особые дети среди нас» эти смыслы активно искались.
В каком-то смысле (это не тавтология) «сложные» дети подводят родителей к необходимости искать новые основания жизни (утраченные некогда или, в принципе, не найденные). От условно здорового ребёнка (нейротипичного, как говорят) ещё можно откупиться: подарками, игрушками, – «на, купи себе что-нибудь, только не отвлекай папу». А от ребёнка с диагнозом ничем не откупишься, ты либо любишь его – и он как-то начинает развиваться, либо ты его не любишь – и он закрывается.
Для родителей и целых семейств (плюс – бабушки, дедушки) ребёнок с диагнозом (как это ни шокирующе звучит) становится иногда солнечным лучом, выводящим из накатанной колеи жизненных моделей и стереотипов. Взрослым кажется, что всё познано, всё распределено по полочкам, «всё схвачено, за всё заплачено». И вот они сталкиваются с ситуацией «полной невозможности» – когда прежние модели не работают и прежние взгляды ничего тебе не объясняют.
И, встав перед необходимостью искать новые смыслы и вырабатывать новые подходы к жизни, некоторые родители действительно становятся «новыми собой». Пройдя через полосу испытаний, как это ни странно звучит в начале пути, они приходят к благодарности, к способности прикоснуться к глубине мира. Может, их ребёнок и пришёл в их дом, чтобы вырвать их из метафизической спячки («Ах, отстаньте вы от меня со своими разговорами о каких-то смыслах, у меня дел – невпроворот, я в отличие от вас деньги, между прочим, зарабатываю, а не болтаю!»).
«Наш ребёнок научил нас жить», – сказал папа мальчика, которому поставили серьёзные диагнозы, рассказывая о своей истории и кивая в сторону супруги, которая стояла рядом. Через 10 лет диагнозы были сняты, все эти годы родители старались помогать своему малышу. «Всего-то понадобилось – 10 лет! – воскликнул папа. – Что такое 10 лет по сравнению с вечностью – ничто», – сказал он и посмотрел на свою молодую красивую супругу, та плакала.