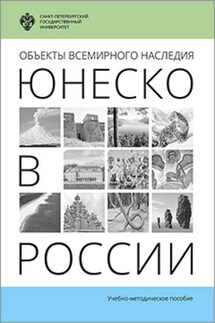Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России - страница 7
Характерным для «александровского классицизма» было сильное французское влияние, и война с Наполеоном ничуть не изменила художественных пристрастий императора. В дальнейшем стиль «александровского классицизма» в русской архитектуре стал перерастать в ампир. Ампир («стиль империи») зародился во Франции и ориентировался на формы искусства императорского Рима.
В России этот стиль после победы в Отечественной войне 1812 г. отражал новые претензии имперского города, «мировой столицы». В то же время в России присущие ампиру регламентированность, симметрия, статичность сочетались со смелостью пространственных решений и градостроительным размахом. Декоративные элементы петербургского ампира составлялись в основном из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерских знаков с орлами, связок копий, щитов, топоров, пучков стрел. Особая «державная» мифология, сложная имперская символика составляли, пожалуй, главное в изобразительном искусстве Петербурга.
Главным выразителем идей русского ампира был архитектор Карл Иванович Росси (1775–1849), построивший тринадцать площадей и двенадцать улиц в центре Петербурга. Рядом с его перспективами, площадями, колоннадами, мощно перекинутыми арками все остальное выглядит робкой стилизацией. Только «россиевскому ампиру» удалось сделать то, что задумал Петр Великий, – создать образ имперского города. Именно благодаря усилиям архитекторов К. И. Росси, В. П. Стасова, О. Монферрана сложился тот величественный ансамбль центральных площадей Петербурга, который несет в себе черты мировой столицы. И первым таким ансамблем, одним из самых выдающихся не только в русском, но и мировом творчестве, стала Дворцовая площадь, спроектированная К. И. Росси.
Стиль, который можно назвать «николаевский ампир», стал последней фазой развития классицизма в русской архитектуре, а середина XIX в. – это уже время кризиса классицистической эстетики. Внешне кризис проявился в утрате гармонии архитектурных форм, их чрезмерной геометричности, переусложненности декоративными деталями. Наглядное представление о переломе, происшедшем в стиле русской архитектуры середины XIX в., дают здания, вошедшие в застройку Исаакиевской площади в Петербурге, главное место среди которых занимал, бесспорно, Исаакиевский собор, возведенный по проекту Огюста Монферрана (1786–1858).
В конце XIX в. дельта Невы состояла из 48 рек и каналов, образующих 101 остров. Поэтому строительство мостов было необходимостью для такого города. Всего же в Санкт-Петербурге около 800 мостов, и все они являют собой произведение искусства. Один из самых известных мостов – Аничков мост через Фонтанку.
Строительство церквей всегда было одним из проявлений духовной культуры. Романтическое стремление выразить в архитектуре духовные традиции народа привело к широкому размаху строительства культовых зданий. Возросла их градообразующая роль: они размещались в узловых точках городского пространства, становясь доминантами архитектурного ландшафта города. В целом же архитектура этого периода характеризуется именно отсутствием стиля и эклектичностью, что получило дальнейшее развитие в период царствования Александра III. Псевдорусский стиль, ставший также разновидностью эклектики, получил распространение под лозунгом «возрождения национальных форм в архитектуре» и был обращен к традициям древнерусского зодчества ХVI–ХVII вв. Основной стереотип такого здания, подчеркивающий значимость России, вырабатывается к концу 1880-х гг. Проектируя фасады этих зданий, зодчие стремились подчеркнуть национальное своеобразие архитектуры, воплощая в каждом из них образ самой России. Шатровые завершения, большие и малые башни, шпили и многочисленные узорочья, пришедшие из русского деревянного зодчества ХVI–ХVII вв., разнообразные кокошники, фигурные наличники, множество орнаментов и других мелких деталей декора – всё это зодчие пытались разместить на фасадах. Один из современников назвал эти мотивы «мраморными полотенцами и кирпичной вышивкой».