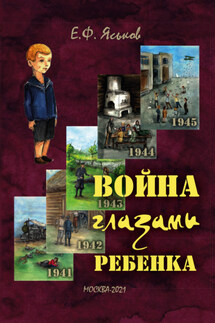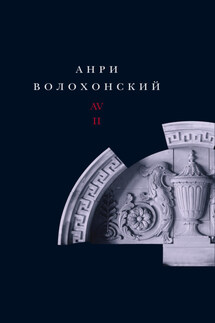Образ России в современном мире и другие сюжеты - страница 43
Если такая системность «связывается», значит, речь идет о синтезирующих культуростроительных процессах и, следовательно, о синтезе как о некоей цивилизационно-строительной реальности, а не о культурологической утопии.
Соотношение инверсии и медиации
Основой для такого подхода является идея фундаментального изоморфизма всех уровней культуры – от онтологического, ментального гносеологического до цивилизационного, разработанная Андреем Пелипенко и Игорем Яковенко в книге «Культура как система»[59]. Культурообразование представлено в ней как прогрессирующее расщепление изначального синкрезиса через все более дробное развертывание, по разном типу в различных цивилизационных версиях, бинарных оппозиций, разрешение которых осуществляется через инверсионно-медиативный механизм. Этот замечательный шаг в теории культуры стал возможен благодаря предшествующей разработке механизма инверсии-медиации А. С. Ахиезером на материале российской цивилизации в историко-социологическом аспекте[60].
На материале историко-культурном работу этого механизма ярко показал Игорь Кондаков в книге «Введение в историю русской культуры»[61].
Эти искания осуществляются в традиции семиотических исследований Ю. М. Лотмана, который в книге «Культура и взрыв»[62] отнес русский вариант культуры к бинарному типу, а западноевропейский – к тернарному.
И все же, суммируя итоги этих работ, мы не получим необходимого слияния всех уровней. Феноменологический уровень упущен в общетеоретических построениях, общетеоретический не «спускается» к феноменологическому. В случае рассмотрения феноменологии нет соединения уровней «идеи» и «поэтики», а если и есть, то нет необходимого обобщения, не разъясняется, каков же все-таки механизм продуцирования нового качества. Очевидно, категории инверсии и медиации требуют проработки «в глубину», в частности, для изучения проблематики пограничных культур[63].
Как показано в упомянутых выше исследованиях, инверсия и медиация суть единый процесс, а преобладание того или иного принципа разрешения бинарных оппозиций характеризует принадлежность культуры к одному из типов – инверсионному (бинарному) или медиационному (тернарному). Для пограничных культур особенно важна разработка инверсионного механизма в преломлении к поэтике. На этом уровне очевидно, что инверсия (по отношению к исходному воспринятому материалу) не есть что-то вроде «кувырка» без обретения нового качества. Если это так, то и в инверсионном механизме наличествует медиационное действие, снимающее оппозиции и дающее новое качество.
А. С. Ахиезер пишет: «Медиация <…> является формированием ранее не известных в данной культуре альтернатив», «новых смыслов»[64]. Далее: «Медиация – кумулятивный процесс, что может привести в конечном счете к смещению меры»[65]. А. Пелипенко и И. Яковенко отмечают: «В результате медиации возникает пространство синтетического становления новых смыслов», «инновационное поле»[66]. «Медиация есть принцип формирования новых смысловых конструкций на основе синтезирования»[67].
И все же, как работает медиация в конкретной «ткани» культуры, на феноменологическом уровне, на уровне поэтологии? Как рождаются «подлинно-синтетическое», «суверенный эклектизм»? Самая простая формула в отношении творчества «латиноамериканского Пушкина» – Рубена Дарио была бы такой: берутся Гонкуры, Теофиль Готье, Альфонс Доде, Эмиль Золя, Гюстав Флобер, Шарль Бодлер, Шарль Леконт де Лиль, Катюль Мендес, а затем еще и Поль Верлен, Эдгар По, Стефан Малларме и другие, тщательно перемешиваются, доводятся до точки кипения в «перегонном кубе модернизма» (выражение Дарио) и получается нечто новое и неповторимое. Источники для знатока понятны, но и самобытность очевидна. Поэтический язык Дарио – основа новой латиноамериканской культуры.