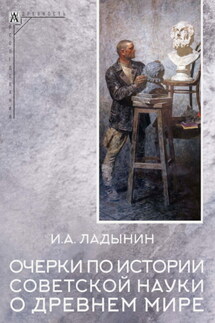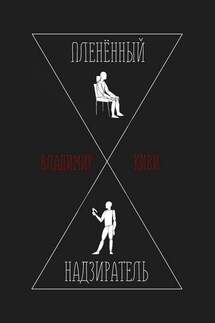Очерки по истории советской науки о древнем мире - страница 15
Интеграции этих схем содействовало и единство их создателей в том, что важнейшей чертой древних обществ как Востока, так и Запада была фундаментальная роль в их функционировании общины. Тезис о свободных общинниках как третьем классе древних обществ, не менее, а более значимом по своей роли в социальной борьбе, чем рабы, стал пунктом консенсуса советских исследователей древности по меньшей мере с 1960-х гг.[68] Принятие этого тезиса сделало более конкретным и изучение собственно рабства: фактическим итогом научной серии «Исследования по истории рабства в античном мире», выходившей в 1960–1970-е гг., стала констатация того, что эта форма эксплуатации была структурообразующей даже не во всех античных обществах [69]. Выкладки И. М. Дьяконова о типологии форм эксплуатации на древнем Востоке, несмотря на введение эффектного термина «илоты», выглядят достаточно бледно и уязвимо [70] по сравнению с его же схемой «путей развития», в которой вопрос о формах эксплуатации играет второстепенную роль. На наш взгляд, правомерно сказать, что в позднесоветской историографии произошло замещение детерминирующего фактора исторического процесса древности: эволюция общины оказалась признана таковым не столько наряду с эволюцией форм эксплуатации и классовой борьбой, сколько вместо них. Эта перемена аксиоматики осталась не «отрефлексирована», как она того заслуживала, ни в советское, ни в постсоветское время; однако ее значение трудно переоценить. По сути дела, было бы уместно поставить вопрос, можно ли с принципиальной точки зрения считать марксистскими исследования, принимающие в качестве детерминанты исторического процесса древности эволюцию общины. Дело не только в том, что этот подход смещает с позиций детерминанты формы эксплуатации и классовую борьбу как таковые: однако разложение общины еще в древности под воздействием института частной собственности и связанных с этим социальных противоречий – тезис, прописанный у основоположников марксизма весьма четко [71] и в свое время определяющий, в частности, для концепции В. В. Струве [72]. Ревизию этого базового тезиса можно было обстроить какими угодно шедшими к делу цитатами; но все же в сути этой манипуляции стоило отдавать себе отчет. Другое дело, что этому нимало не приходилось огорчаться: именно на этапе, когда такая манипуляция произошла, советская историография все же подошла к созданию единой и связной концепции древней истории, не порвавшей с представлением об определяющей роли в развитии общества объективных факторов, но отошедшей от их вульгарного осмысления [73].
Подводя некоторый итог сказанному нами, мы, прежде всего, хотим констатировать, что, говоря ленинскими словами, отказываться от того наследства, которое нам дает советская историография древности, нет ни смысла, ни надобности. Как мы видели, единую концепцию древней истории, которая последовательно выдерживала бы все постулаты марксизма, в советское время не смогли создать ни официозная наука, ни ученые, искавшие ей альтернативу в рамках марксистской парадигмы. Ближе всего к созданию общей теории древности советская наука подошла лишь в 1960–1980-е гг., когда отважилась на крайне существенные поправки к изначальной марксистской аксиоматике. Значение этого этапа состоит и в том, что именно тогда советская историография древности прошла основательную модернизацию с точки зрения не только методологических корректив, но и несравненно более широкого, чем прежде, восприятия опыта мировой науки: по существу, восстановилась интеграция с последней отечественных антиковедения и науки о древнем Востоке, которая была прервана с 1920-х гг.