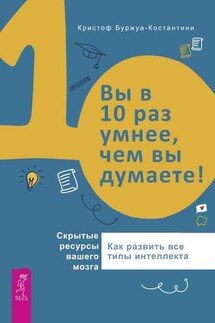Октябрический режим. Том 1 - страница 89
Крестьянство действительно с большим интересом отнеслось к Г. Думе. Кадет Колпаков утверждал, что деревня «каждое слово, сказанное в Думе, ловит на лету, в особенности, конечно, ее интересует земельный вопрос. Каждое слово о земельном вопросе взвешивается, рассказывается деревней так и сяк». Токарский упоминал 70-летнего старика, который ходит каждый день за 10-12 верст и ожидает известий от народного представительства. По свидетельству С. С. Кондурушкина, «казалось, вся русская деревня собралась к полотну железной дороги, машет отчаянно руками и кричит: – Газету, газету!».
Некие крестьяне даже обратились к членам Г. Думы по телеграфу с вопросом – покупать ли землю через Крестьянский банк ввиду предстоящей аграрной реформы. Адресаты посоветовали повременить.
В печати появлялись телеграммы различных крестьянских обществ членам Г. Думы с просьбами добиваться отчуждения земель. Порой эти прошения инспирировались самими же адресатами и нередко оказывались подложными: «Расследованием, проведенным местными властями, почти всегда, однако, выясняется, что эти телеграммы посылаются без ведома тех, чьи подписи под ними указаны». С другой стороны, не исключено, что крестьяне, испугавшись властей, отреклись от своих телеграмм.
Неоднократно Таврический дворец посещали крестьянские ходоки, «робко бродившие по паркетным полам среди депутатов и журналистов и с благоговением слушавшие речи думских ораторов». Ходоки прибывали издалека – Киевская, Саратовская губернии и т. д.
Один такой гость из Псковской губ. признался, что «не мог усидеть в деревне, когда в Питере решается вопрос о земле».
Впрочем, не стоит преувеличивать политизированность русской деревни. Она все-таки уповала больше на Царя, чем на Думу. Некий белгородский монархист писал: «Мне приходилось слышать разговоры крестьян о том, что Дума даст им землю и что покуда Дума этого не сделает, правительство ничего не предпримет в этом направлении под влиянием господ; но так говорили единицы, а десятки и сотни не верили даже и в это, а ожидали Царского указа, все той же золотой грамоты».
Как бы то ни было – крестьянство ждало перемен. На эту почву падали агитационные зерна из Г. Думы. Кадеты твердили о передаче крестьянам земли помещиков. По справедливому замечанию барона Роппа, это был опасный лозунг.
«Эти лозунги брошены в среду, которая совершенно неподготовлена для того, чтобы разобраться в них. […]
Мы не выйдем из такого положения, чтобы в многонаселенной Российской империи не было безземелья. Между тем, мы бросаем крестьянам надежды – достать землю, даже не говоря, каким образом, за какую цену. Такая надежда, неуловимая, много напортит и уничтожит спокойствие страны».
По мнению оратора, проект 42-х грозил междоусобной войной «всех против всех», в результате которой «население попадет под террор, под влияние какого-то негласного правительства, кулаков и разного рода лиц».
Аграрная инициатива кадетов вкупе с непрерывными призывами левых к восстанию единым агитационным потоком обрушились на крестьянство. Губернаторы почти ежедневно доносили министру внутренних дел, что речи, звучащие с думской кафедры, вызывают новое революционное брожение. «…того, что говорится в Думе, вы не найдете в самой отчаянной подпольной брошюрке…», – негодовали «Московские ведомости». А в следующем году «Голос Москвы» отметил: «Революция приобрела прекрасную позицию в нижней палате; вместо прокламаций, которые приходилось печатать в подпольной типографии, теперь можно рассылать речи депутатов, благо все оне с отменной тщательностью стенографируются на казенные деньги, чтобы, на следующий день появившись в газетах, торгующих красным товаром, оне в миллионах экземпляров разошлись по всей России».