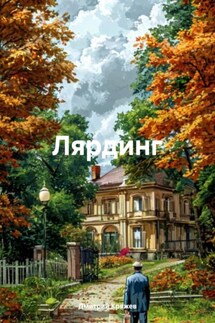Октябрический режим. Том 2 - страница 51
Авторы заявления предлагали вместо мирового института ввести выборный коллегиальный суд по образцу гминных судов, существовавших в губерниях Царства Польского, и волостных судов прибалтийских губерний. Такой суд был бы коллегиальным, из трех местных жителей: председатель – с образованием, остальные двое заседателей («лавников») – крестьяне.
Вероятно, крестьяне не сами сочинили эту систему, в которой чувствуется рука интеллигентного человека. Им, вероятно, был Замысловский, которого левая печать обвиняла в давлении на крестьян членов судебной комиссии во время баллотировки вопроса о выборных мировых судьях. Кроме того, именно Замысловский подал в комиссию особое мнение также в защиту коллегиального суда. Депутат писал, что надлежит сохранить достоинства существующего волостного суда (отправление правосудия местными людьми, близость к населению, дешевизна, непосредственность сношения с тяжущимися) и избежать его недостатков (сословность, малограмотность судей, пьянство, взяточничество, зависимость от волостного писаря).
Комиссия рассмотрела крестьянское заявление и после речи товарища министра юстиции Гасмана отклонила проект коллегиального суда. Мнение 45 крестьян не вошло в доклад, поскольку только 6 из 45 подписавших были членами комиссии. Шубинский предложил крестьянам подать особое мнение, что они и сделали, и заявление было приложено к докладу. При начале общих прений Челышев прочел заявление 45-ти с кафедры.
Коллегиальный суд по образцу гминного: за и против
В защиту суда, устроенного по образцу гминного, выступали ораторы правой стороны, в том числе оба епископа и крестьяне. С точки зрения сторонников этого суда, он сохранял бы все преимущества волостного суда благодаря двум крестьянам в его составе, но и не наследовал бы недостатков волостного суда благодаря культурному председателю.
Еп. Евлогий, живя более десяти лет в Привислинском крае, не понаслышке знал о преимуществах гминного суда и горячо отстаивал устройство имперского суда по его образцу. Свою речь владыка построил на противопоставлении «крепкой русской сметки» крестьянина и беспочвенности образованного слоя. Недаром пословица говорит о русском мужике: «кафтан-то у него сер, а ум-то у него не волк съел». Судья-крестьянин хорошо понимает психологию своих собратьев. В то же время «надобно сознаться, к сожалению, в том, что наша жизнь еще не выработала типа народной интеллигенции, той интеллигенции, которая жила бы одной жизнью с народом, одной верой, одними идеалами. Надо сознаться, что между нашей интеллигенцией и народом до сих пор лежит еще довольно глубокая пропасть, что наша интеллигенция в значительной доле своей все-таки беспочвенна, оторвана от народа, и даже те дети народа, о которых здесь говорил депутат Люц, дети крестьян, которые потом проходят нашу среднюю и высшую школу, делаются интеллигентами, часто теряют связь с народом и делаются беспочвенными. Ведь надо сознаться, что мы очень мало знаем свой народ, что мы часто, окончив высшее учебное заведение, не умеем подойти к народу, не умеем заговорить с ним понятным ему языком». Если не придать мировому судье двух товарищей из крестьян, то «наша мировая юстиция, если не останется слепой, как здесь говорили, то она будет, так сказать, с одним глазом, и часто весы правосудия в этой юстиции будут склоняться не в сторону жизненной правды, а в сторону теоретического мудрования над жизнью».